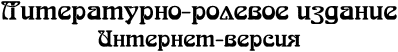Владимир Дэйн & Red 2 the Ranger
Перекрёсток
(отрывки из черновиков)
Авторы сообщают, что куски текста, представленные здесь, имеют мало общего с текстом текущей версии готовящегося романа «Перекрёсток».
Пролог
 — ... Засиделись мы сегодня что-то, — позевывая произнесла Рой. Дэн молча кивнул — и вправду, засиделись. Солнце уже давно спрятало свой диск за горизонтом, и в тёмно-синем небе крупинками соли рассыпались звёзды. — ... Засиделись мы сегодня что-то, — позевывая произнесла Рой. Дэн молча кивнул — и вправду, засиделись. Солнце уже давно спрятало свой диск за горизонтом, и в тёмно-синем небе крупинками соли рассыпались звёзды.
 Дэн, после весьма длительного просиживания штанов в кресле, медленно потянулся, затем поднялся и неторопливо подошёл к окну, попутно отметив, как взгляд Рой из усталого и сонного мгновенно преобразился в цепкий и внимательный. Дэн коротко усмехнулся и, повозившись немного со шпингалетами, распахнул створки окна, успев подумать, что петли неплохо бы было смазать, пока те окончательно не проржавели. Дэн, после весьма длительного просиживания штанов в кресле, медленно потянулся, затем поднялся и неторопливо подошёл к окну, попутно отметив, как взгляд Рой из усталого и сонного мгновенно преобразился в цепкий и внимательный. Дэн коротко усмехнулся и, повозившись немного со шпингалетами, распахнул створки окна, успев подумать, что петли неплохо бы было смазать, пока те окончательно не проржавели.
 За окном лежал ночной город. За окном лежал ночной город.
 ... Звезды чуть мерцают. Зимние звезды уже уходят, а летние не торопятся занять свое место в небесном хороводе. Молчание пустырей. Брех собак во дворах одноэтажных домишек Плановки. Пятна света от редких фонарей, полосы фар от проезжающих внизу машин, квадраты, а вдали — точки окон в квартирах полуночников. Робкие островки света в море тьмы, которая затопила мир, поднимаясь к небу, а в небе, звенящим провалом во тьме — Луна. До полнолуния осталось четыре дня, диск уже кажется круглым, но внимательный глаз различит едва заметную неправильность, ущербность, косую тень... Луна поёт — для тех, кто слышит эту неразличимую песнь. А с земли — поют — деревья. Призрак листвы уже запутался в кронах, и ветви, которые были гладкими, костлявыми руками зимы, вдруг словно развернулись, — листьев еще нет, но их трепет, их зелень уже здесь, они призрачным сиянием обволакивают кроны, невидимые в ночи, но явственно слышимые, как будто движение сока по стволам можно услышать. Спящие дома — прямоугольные зубцы, провалы мрака, душные крепости, бастионы на пути тьмы. И кое-где светится окно — то желтым теплым огоньком, то синеватым мерцанием. У самого горизонта — зарево, грозное пламя, гул. Далекий шлакоотвал светится, как проснувшийся вулкан. ... Звезды чуть мерцают. Зимние звезды уже уходят, а летние не торопятся занять свое место в небесном хороводе. Молчание пустырей. Брех собак во дворах одноэтажных домишек Плановки. Пятна света от редких фонарей, полосы фар от проезжающих внизу машин, квадраты, а вдали — точки окон в квартирах полуночников. Робкие островки света в море тьмы, которая затопила мир, поднимаясь к небу, а в небе, звенящим провалом во тьме — Луна. До полнолуния осталось четыре дня, диск уже кажется круглым, но внимательный глаз различит едва заметную неправильность, ущербность, косую тень... Луна поёт — для тех, кто слышит эту неразличимую песнь. А с земли — поют — деревья. Призрак листвы уже запутался в кронах, и ветви, которые были гладкими, костлявыми руками зимы, вдруг словно развернулись, — листьев еще нет, но их трепет, их зелень уже здесь, они призрачным сиянием обволакивают кроны, невидимые в ночи, но явственно слышимые, как будто движение сока по стволам можно услышать. Спящие дома — прямоугольные зубцы, провалы мрака, душные крепости, бастионы на пути тьмы. И кое-где светится окно — то желтым теплым огоньком, то синеватым мерцанием. У самого горизонта — зарево, грозное пламя, гул. Далекий шлакоотвал светится, как проснувшийся вулкан.
 Ночь — это свет. Ночь в городе вырисовывает брызгами света вывески круглосуточных магазинов, фонари, дома, поздние трамваи. Огонек сигареты, лучи фар. Всё, что днем теряется в круговерти отраженного света, а сейчас выпукло и ясно светится само. Для всех существ дня ночь — пунктир светлых пятен, опоры для глаз. Даже в степи, когда за сотни миль ни столба, ни стены, ни фонаря, когда плывешь в океане мрака, глаз ищет зацепку — далекий костер, пламя спички, а если нет — то остаются звезды... Ночь — это свет. Ночь в городе вырисовывает брызгами света вывески круглосуточных магазинов, фонари, дома, поздние трамваи. Огонек сигареты, лучи фар. Всё, что днем теряется в круговерти отраженного света, а сейчас выпукло и ясно светится само. Для всех существ дня ночь — пунктир светлых пятен, опоры для глаз. Даже в степи, когда за сотни миль ни столба, ни стены, ни фонаря, когда плывешь в океане мрака, глаз ищет зацепку — далекий костер, пламя спички, а если нет — то остаются звезды...
 Глядя на луну, Дэн, не оборачиваясь и как бы ни к кому не обращаясь, сказал: Глядя на луну, Дэн, не оборачиваясь и как бы ни к кому не обращаясь, сказал:
 — Через четыре дня — полнолуние... — Через четыре дня — полнолуние...
 — И?.. — откликнулась Рой. — И?.. — откликнулась Рой.
 — Ты понимаешь, что я имею в виду... — Дэн снова замолчал, чувствуя как взгляд Рой буквально вонзился к нему в спину. — Ты понимаешь, что я имею в виду... — Дэн снова замолчал, чувствуя как взгляд Рой буквально вонзился к нему в спину.
 — ... Я не знаю, — после нескольких минут напряжённого молчания выдавила из себя Рой. — Я... я до сих пор не могу решиться, как не могу и поверить в то, что ты говоришь. — ... Я не знаю, — после нескольких минут напряжённого молчания выдавила из себя Рой. — Я... я до сих пор не могу решиться, как не могу и поверить в то, что ты говоришь.
 — А я и не прошу верить моим словам, — Дэн резко обернулся и заглянул в глубокие глаза Рой. — Я предлагаю тебе идти со мной, а не верить беспрекословно во всё, что я скажу... Я ведь много могу наговорить, — Дэн расслабился. — Да ты и сама это прекрасно знаешь. — А я и не прошу верить моим словам, — Дэн резко обернулся и заглянул в глубокие глаза Рой. — Я предлагаю тебе идти со мной, а не верить беспрекословно во всё, что я скажу... Я ведь много могу наговорить, — Дэн расслабился. — Да ты и сама это прекрасно знаешь.
 В комнате снова повисло молчание. В конце концов, Рой, не выдержав, осторожно поинтересовалась: В комнате снова повисло молчание. В конце концов, Рой, не выдержав, осторожно поинтересовалась:
 — Но как же я пойду с тобой, если не верю твоим словам? — Но как же я пойду с тобой, если не верю твоим словам?
 — Молча! — со спокойной усмешкой сказал Дэн и, не прерываясь, продолжил: — А если серьёзно... Ну, вот тебе пример. Представь, что я неожиданно прихожу к тебе и говорю: «Пойдём, прогуляемся». Ты что, будешь два часа расспрашивать, что у меня на уме, а потом не пойдёшь потому, что мне не веришь? — Молча! — со спокойной усмешкой сказал Дэн и, не прерываясь, продолжил: — А если серьёзно... Ну, вот тебе пример. Представь, что я неожиданно прихожу к тебе и говорю: «Пойдём, прогуляемся». Ты что, будешь два часа расспрашивать, что у меня на уме, а потом не пойдёшь потому, что мне не веришь?
 — Ты и сам знаешь, что нет. Я отправлялась с тобой, даже если думала, что повод для прогулки недостаточный или вообще придуманный. — Ты и сам знаешь, что нет. Я отправлялась с тобой, даже если думала, что повод для прогулки недостаточный или вообще придуманный.
 — Вот именно! А сейчас что изменилось? — Вот именно! А сейчас что изменилось?
 — Ну-у-у... как сказать... ситуация, что ли, более нетривиальная... — Ну-у-у... как сказать... ситуация, что ли, более нетривиальная...
 — «Более», «менее», знаки равенства и неравенства, прочая математика... Ты б ещё формулу тривиальности-нетривиальности вывела, по которой и высчитывала, когда идти со мной, а когда — нет. Скажи мне честно: ты ученик мага — или профессора точных наук? Стоп, не отвечай, вопрос риторический. А сейчас вопрос по существу: ты боишься со мной идти только потому, что опасаешься неизвестности — или потому, что не хочешь во мне разочароваться? — «Более», «менее», знаки равенства и неравенства, прочая математика... Ты б ещё формулу тривиальности-нетривиальности вывела, по которой и высчитывала, когда идти со мной, а когда — нет. Скажи мне честно: ты ученик мага — или профессора точных наук? Стоп, не отвечай, вопрос риторический. А сейчас вопрос по существу: ты боишься со мной идти только потому, что опасаешься неизвестности — или потому, что не хочешь во мне разочароваться?
 — А можно не отвечать на вопрос? — А можно не отвечать на вопрос?
 — Можно. Я догадывался, какой ответ более правильный, а сейчас понял это точно. Слишком уж звонкой была твоя мысль по этому поводу. — Можно. Я догадывался, какой ответ более правильный, а сейчас понял это точно. Слишком уж звонкой была твоя мысль по этому поводу.
 — Ты и мысли мои можешь читать? — недоверчиво улыбнулась Рой. — Ты и мысли мои можешь читать? — недоверчиво улыбнулась Рой.
 — Я могу всё. В том числе — спать на потолке, петь хором сам с собой, читать мысли молодых глупых девушек, — улыбаясь, ответил Дэн, — только обычно не делаю этого. Ты, например, не давала мне разрешение копаться в твоих мыслях, поэтому я и слышу только самые звонкие из них. Причём, обычно это различные глупости. Вот, к примеру, когда ты рассматривала альбом Валледжио, ты думала о... Молчу, молчу, — с хохотом закончил он, ловя запущенную в него подушку. — Я могу всё. В том числе — спать на потолке, петь хором сам с собой, читать мысли молодых глупых девушек, — улыбаясь, ответил Дэн, — только обычно не делаю этого. Ты, например, не давала мне разрешение копаться в твоих мыслях, поэтому я и слышу только самые звонкие из них. Причём, обычно это различные глупости. Вот, к примеру, когда ты рассматривала альбом Валледжио, ты думала о... Молчу, молчу, — с хохотом закончил он, ловя запущенную в него подушку.
 ... Он раскрыл глаза и попытался сосредоточиться посредством приведения мыслей в единый порядок. Получилось, впрочем, весьма посредственно — голова трещала, глаза разъезжались в разные стороны, не желая фокусироваться в одной точке. Но это не сильно его обеспокоило. ... Он раскрыл глаза и попытался сосредоточиться посредством приведения мыслей в единый порядок. Получилось, впрочем, весьма посредственно — голова трещала, глаза разъезжались в разные стороны, не желая фокусироваться в одной точке. Но это не сильно его обеспокоило.
 Приподнявшись с кровати, на которой он собственно и находился, он взглянул на часы. Было утро, пять минут седьмого. «Пора», — подумалось ему, и он, окончательно очнувшись, поднялся и начал быстро собираться. Собственно, всё уже было собрано, осталось только одеться потеплее — ранняя весна, как-никак. Приподнявшись с кровати, на которой он собственно и находился, он взглянул на часы. Было утро, пять минут седьмого. «Пора», — подумалось ему, и он, окончательно очнувшись, поднялся и начал быстро собираться. Собственно, всё уже было собрано, осталось только одеться потеплее — ранняя весна, как-никак.
 Когда он уже оделся, в его голову внезапно пришло какое-то воспоминание, слабо оформившееся в мысль. На его лице появилась явная заинтересованность, и он, не медля, отправился из спальни на кухню, где сразу же заглянул в холодильник. На его лице расплывалась радостная улыбка, в то время как руки доставали из-под морозилки припасённую с вечера бутылку портвейна. Когда он уже оделся, в его голову внезапно пришло какое-то воспоминание, слабо оформившееся в мысль. На его лице появилась явная заинтересованность, и он, не медля, отправился из спальни на кухню, где сразу же заглянул в холодильник. На его лице расплывалась радостная улыбка, в то время как руки доставали из-под морозилки припасённую с вечера бутылку портвейна.
 «Как мало нужно бедному демону-мастеру для полного счастья», — размышлял он, открывая бутылку и наливая презренную жидкость в любимый гранёный стакан. «Хорошо, что люди изобрели не только искусство пить, но и искусство похмеляться». «Как мало нужно бедному демону-мастеру для полного счастья», — размышлял он, открывая бутылку и наливая презренную жидкость в любимый гранёный стакан. «Хорошо, что люди изобрели не только искусство пить, но и искусство похмеляться».
 «Вообще, люди много чего изобрели, включая и абсолютно бесполезные вещи», — размышлял он уже чуть позже, когда содержимое стакана оказалось внутри желудка, а мысли наконец-то систематизировались из малоприятного бардака в привычный хаос. «Одно радует — платоническую любовь изобрёл Платон, а не Адам». «Вообще, люди много чего изобрели, включая и абсолютно бесполезные вещи», — размышлял он уже чуть позже, когда содержимое стакана оказалось внутри желудка, а мысли наконец-то систематизировались из малоприятного бардака в привычный хаос. «Одно радует — платоническую любовь изобрёл Платон, а не Адам».
 С этими мыслями он направился в прихожую, где спрятал бутылку с остатками вина в рюкзак. После этого он накинул штормовку, надел болотные сапоги и, подхватив рюкзак, отправился на выход. Открывая дверь, он взглянул на ставшую уже привычной памятку на двери: «Уходя — гасите всех!» С традиционной усмешкой он вышел в подъезд... С этими мыслями он направился в прихожую, где спрятал бутылку с остатками вина в рюкзак. После этого он накинул штормовку, надел болотные сапоги и, подхватив рюкзак, отправился на выход. Открывая дверь, он взглянул на ставшую уже привычной памятку на двери: «Уходя — гасите всех!» С традиционной усмешкой он вышел в подъезд...
Глава 2. На перепутье
 Теплый очаг. Теплый плед. Теплая, ласкающая пальцы, тяжелая кружка с горячим питьем... Тепло, навязчивая идея тепла билась в голове, ища выхода, не согревая, но и не давая просто упасть в эту раскисшую дорогу, как в реку, остыть и уплыть, чтобы утречком добрые люди нашли закоченевший труп с широко раскинутыми руками, словно обнимающий грязную полосу земли. Чтобы помянули по обычаю, занюхали рукавом, да и отволокли бедолагу за ноги в деревню — знатный зомбак будет, и своих никого не отдавать, вот радость-то, вот добр человек, кончился посредь дороги, под небом, над землей, и крестьянам облегчение вышло их тяжкой доли. А шиш вам! Застывшие пальцы не хотели складываться в известную всем фигуру, но потом сложились — ткнул радостно кукишем на все четыре стороны, подумал и ткнул в две остальные, под ноги — куда провались душа, в небеса постылые — куда вознесись тело, чтоб не достали, не разбудили, не подняли раным-раненько. Вот вам, мужички, скоро светлый праздничек, ан не доставлю я вам такого удовольствия. Дотащусь. Доковыляю. До тепла, до жизни, до неласковой судьбы — а все лучше, чем из обледенелой лужи подняться и маршировать по приказу, добрых людей пугая. Добрых. Пока живые — все добрые. Теплый очаг. Теплый плед. Теплая, ласкающая пальцы, тяжелая кружка с горячим питьем... Тепло, навязчивая идея тепла билась в голове, ища выхода, не согревая, но и не давая просто упасть в эту раскисшую дорогу, как в реку, остыть и уплыть, чтобы утречком добрые люди нашли закоченевший труп с широко раскинутыми руками, словно обнимающий грязную полосу земли. Чтобы помянули по обычаю, занюхали рукавом, да и отволокли бедолагу за ноги в деревню — знатный зомбак будет, и своих никого не отдавать, вот радость-то, вот добр человек, кончился посредь дороги, под небом, над землей, и крестьянам облегчение вышло их тяжкой доли. А шиш вам! Застывшие пальцы не хотели складываться в известную всем фигуру, но потом сложились — ткнул радостно кукишем на все четыре стороны, подумал и ткнул в две остальные, под ноги — куда провались душа, в небеса постылые — куда вознесись тело, чтоб не достали, не разбудили, не подняли раным-раненько. Вот вам, мужички, скоро светлый праздничек, ан не доставлю я вам такого удовольствия. Дотащусь. Доковыляю. До тепла, до жизни, до неласковой судьбы — а все лучше, чем из обледенелой лужи подняться и маршировать по приказу, добрых людей пугая. Добрых. Пока живые — все добрые.
 Не хочу быть зомби. Не хочу быть зомби.
 А кто ж меня спросит? Бродяга... раньше было — семь штук на грошик. Теперь-то повывелись бродяги. Никто не защитит, не оборонит сиротинушку, перекати-поле. Вот и зацапают добрые люди, втихаря дубиной гнева народного ошарашат, либо придушат, втихаря же, да и сдадут некроманту-чародею. Чужой, не жалко. Бродишь? Стой. Стоишь? Ляг. Лежишь? Встань и иди. Чтоб пальцы не гнулись (нам ли их гнуть?), чтоб очи не видели, чтоб мертво голова моталась. А крестьянцам добрым от оброка тяжкого облегчение, не искать им промеж себя дурня либо пропащую головушку, не тянуть злой жребий из дырявой шапки, не везти связанного, дурным стоном воющего — своего же, сельчанина! — на смерть после жизни и не-жизнь после смерти. Повывели бродяг. Купцы крепким обозом дорогу меряют, их задешево не возьмешь. А кому еще по дорогам шататься? Кабы не мне, то и некому — зарастай, дорожка прямоезжая. А кто ж меня спросит? Бродяга... раньше было — семь штук на грошик. Теперь-то повывелись бродяги. Никто не защитит, не оборонит сиротинушку, перекати-поле. Вот и зацапают добрые люди, втихаря дубиной гнева народного ошарашат, либо придушат, втихаря же, да и сдадут некроманту-чародею. Чужой, не жалко. Бродишь? Стой. Стоишь? Ляг. Лежишь? Встань и иди. Чтоб пальцы не гнулись (нам ли их гнуть?), чтоб очи не видели, чтоб мертво голова моталась. А крестьянцам добрым от оброка тяжкого облегчение, не искать им промеж себя дурня либо пропащую головушку, не тянуть злой жребий из дырявой шапки, не везти связанного, дурным стоном воющего — своего же, сельчанина! — на смерть после жизни и не-жизнь после смерти. Повывели бродяг. Купцы крепким обозом дорогу меряют, их задешево не возьмешь. А кому еще по дорогам шататься? Кабы не мне, то и некому — зарастай, дорожка прямоезжая.
 Холодно, ох как холодно. К теплу бы счас. Еды бы, горячей. У очага бы погреться. А то на левой руке кукиш закостенел, впору киянкой разбивать. То бишь молотом деревянным. Почему не железным? А жалко. Хоть кукиш, да свой. На правой руке и того не загнешь — нема на ней пальца наиглавнейшего, коим шиш загибается. Только кулак сложить, в небушко погрозить. Отмерзнут пальцы, как есть отмерзнут. Холодно, ох как холодно. К теплу бы счас. Еды бы, горячей. У очага бы погреться. А то на левой руке кукиш закостенел, впору киянкой разбивать. То бишь молотом деревянным. Почему не железным? А жалко. Хоть кукиш, да свой. На правой руке и того не загнешь — нема на ней пальца наиглавнейшего, коим шиш загибается. Только кулак сложить, в небушко погрозить. Отмерзнут пальцы, как есть отмерзнут.
 Под свое бормотание, то ли вслух, то ли в уме жужжащее, под ковыляние и плеск по лужам, ледяной корочкой схваченным, зазевался, внутрь себя ушел, внутренние сопли на внутренний кулак наматывая. Не услышал того, что надо было слышать. Хлюпанье далекое, чавканье по грязи. О! Слышу, слышу. Фыркание, чмокание, голос неразборчивый. Вот незадача, а. Конный. Небось, не один, по одному счас не ездят. А отойти некуда — пообок дороги хляби земные, что полями станут по весне, ступи туда по дури — враз по пояс увязнешь. Хоть сумерки уже, а не спрятаться мне, торчу посредь пространств немереных, аки мухомор на просеке — кто пройдет, норовит сапогом в рожу дать. Или залечь в грязь стылую, холмиком прикинуться? Так холмиком и останешься... холодно. Под свое бормотание, то ли вслух, то ли в уме жужжащее, под ковыляние и плеск по лужам, ледяной корочкой схваченным, зазевался, внутрь себя ушел, внутренние сопли на внутренний кулак наматывая. Не услышал того, что надо было слышать. Хлюпанье далекое, чавканье по грязи. О! Слышу, слышу. Фыркание, чмокание, голос неразборчивый. Вот незадача, а. Конный. Небось, не один, по одному счас не ездят. А отойти некуда — пообок дороги хляби земные, что полями станут по весне, ступи туда по дури — враз по пояс увязнешь. Хоть сумерки уже, а не спрятаться мне, торчу посредь пространств немереных, аки мухомор на просеке — кто пройдет, норовит сапогом в рожу дать. Или залечь в грязь стылую, холмиком прикинуться? Так холмиком и останешься... холодно.
 Ну и не стал прятаться. И суетиться не стал. Остановился, вбок шагнул, чтоб не стоптали конем, приготовился плащом закрыться, когда комья грязи из-под копыт полетят. Ну, пронеси, судьба лихая. Ну и не стал прятаться. И суетиться не стал. Остановился, вбок шагнул, чтоб не стоптали конем, приготовился плащом закрыться, когда комья грязи из-под копыт полетят. Ну, пронеси, судьба лихая.
 Конный ехал не быстро. Сторожко ехал. А заметив темную фигуру у обочины, и вовсе лошадь осадил. Губами причмокнул. Остановился шагах в пяти, поводья перехватил одной рукой, другой сложил знак оборонительный, от нежити ну ни фига не помогающий. Конный ехал не быстро. Сторожко ехал. А заметив темную фигуру у обочины, и вовсе лошадь осадил. Губами причмокнул. Остановился шагах в пяти, поводья перехватил одной рукой, другой сложил знак оборонительный, от нежити ну ни фига не помогающий.
 Я успел удивиться тому, что ясно вижу движение его пальцев, плетущих в воздухе косичку. Темнело, я свои-то руки едва видел, а вот поди ж ты, разглядел, чего он там плетет. Я успел удивиться тому, что ясно вижу движение его пальцев, плетущих в воздухе косичку. Темнело, я свои-то руки едва видел, а вот поди ж ты, разглядел, чего он там плетет.
 Лошадь шумно выдохнула. Чего это она? Лошадей я не любил и не понимал, хотя и безо всякой злобы к ним относился. Пусть себе будут. Подале от меня. Лошадь шумно выдохнула. Чего это она? Лошадей я не любил и не понимал, хотя и безо всякой злобы к ним относился. Пусть себе будут. Подале от меня.
 — Х-х-хто ты? — как-то странно вопросил верховой. Полушепотом и с придыханием. Тут я понял, что он меня, видимо, боится не менее, чем я его. А то и поболее. И то сказать, брело себе по дороге непонятное нечто, бормотало что-то, а его услышало — остановилось и ждет. Молча. Не иначе, кровь пить примеривается. Или что похуже. Я вроде бы даже чуть согрелся — подумал, не завыть ли, аки оборотень, чтобы драпал попутчик нежданный. Или зашипеть? Или засмеяться мерзко? По деревянности моих движений счас всякий скажет — зомби. Никто не скажет, что человеку просто холодно. Точно. Скажу эдак с расстановочкой, утробно — «Ха. Ха. Ха» — только не знаешь, заверещит и прочь кинется, либо рубить начнет чем ни попадя. Вдруг все-таки не совсем перетрусил? Опять же, лошадь у него. — Х-х-хто ты? — как-то странно вопросил верховой. Полушепотом и с придыханием. Тут я понял, что он меня, видимо, боится не менее, чем я его. А то и поболее. И то сказать, брело себе по дороге непонятное нечто, бормотало что-то, а его услышало — остановилось и ждет. Молча. Не иначе, кровь пить примеривается. Или что похуже. Я вроде бы даже чуть согрелся — подумал, не завыть ли, аки оборотень, чтобы драпал попутчик нежданный. Или зашипеть? Или засмеяться мерзко? По деревянности моих движений счас всякий скажет — зомби. Никто не скажет, что человеку просто холодно. Точно. Скажу эдак с расстановочкой, утробно — «Ха. Ха. Ха» — только не знаешь, заверещит и прочь кинется, либо рубить начнет чем ни попадя. Вдруг все-таки не совсем перетрусил? Опять же, лошадь у него.
 — Ап-чхи! — не хотел, само вылетело, аж в ушах зазвенело от собственного чиха. И утратив всякую охоту шутить, я проворчал: — Человек я. Аль не видишь? — Ап-чхи! — не хотел, само вылетело, аж в ушах зазвенело от собственного чиха. И утратив всякую охоту шутить, я проворчал: — Человек я. Аль не видишь?
 — Вижу, — ответил мой собеседник, и по его движению я скорее угадал, чем увидел — у него в руке не просто легкий арбалет, а с серебряным болтом. Светлая линия, мелькнувшая во тьме. Когда и взвести успел? Не ехал же он со взведенным арбалетом, а? Мои размышления прервал новый вопрос: — Вижу, — ответил мой собеседник, и по его движению я скорее угадал, чем увидел — у него в руке не просто легкий арбалет, а с серебряным болтом. Светлая линия, мелькнувшая во тьме. Когда и взвести успел? Не ехал же он со взведенным арбалетом, а? Мои размышления прервал новый вопрос:
 — И куда путь держим? — И куда путь держим?
 Любопытный он, однако. С этого света на тот, вот куда. Я так и сказал. Арбалета его я нисколько не опасался. Жить было насрать, а убитого серебряной стрелой как зомбака не поднимут. Любопытный он, однако. С этого света на тот, вот куда. Я так и сказал. Арбалета его я нисколько не опасался. Жить было насрать, а убитого серебряной стрелой как зомбака не поднимут.
 — Может, подбросить? — с подковырочкой такой последовал вопросец. Но арбалет он убрал. Хмыкнул: — Да ты не бойся... — Может, подбросить? — с подковырочкой такой последовал вопросец. Но арбалет он убрал. Хмыкнул: — Да ты не бойся...
 И, прежде чем я успел уверить его, что вот ни на столечко не боюсь (пальцы замерзли, и мерой «вот на столечка» был бы жест, столь же оскорбительный, как изображаемый пальцами, но оных не требующий), попутчик мой нежданный предложил: И, прежде чем я успел уверить его, что вот ни на столечко не боюсь (пальцы замерзли, и мерой «вот на столечка» был бы жест, столь же оскорбительный, как изображаемый пальцами, но оных не требующий), попутчик мой нежданный предложил:
 — Хватайся за стремя, тут постоялый двор недалеко, — и причмокнул, но уже не мне, а лошади, которая мотнула головой и двинулась вперед. — Хватайся за стремя, тут постоялый двор недалеко, — и причмокнул, но уже не мне, а лошади, которая мотнула головой и двинулась вперед.
 Пальцы, хоть и не с первой попытки, разогнулись и вновь сомкнулись — уже на том, за что предложено было хвататься. Я перебирал ногами и думал, сколь же странное существо человек — только что готов был в эту грязь ложиться со стрелою в пузе, а теперь вот спешу в тепло и уют, да еще и обижаюсь, что не на конский круп меня посадили... Пальцы, хоть и не с первой попытки, разогнулись и вновь сомкнулись — уже на том, за что предложено было хвататься. Я перебирал ногами и думал, сколь же странное существо человек — только что готов был в эту грязь ложиться со стрелою в пузе, а теперь вот спешу в тепло и уют, да еще и обижаюсь, что не на конский круп меня посадили...
 Постоялый двор и впрямь нарисовался из тумана: буквально, как на акварели. Из белесых влажных полотнищ, колыхавшихся над дорогой, выплыл огонек, под ним обнаружилась дверь, далее — кусок стены. Жизнь. Постоялый двор и впрямь нарисовался из тумана: буквально, как на акварели. Из белесых влажных полотнищ, колыхавшихся над дорогой, выплыл огонек, под ним обнаружилась дверь, далее — кусок стены. Жизнь.
 Оказавшись внутри, вытянув ноги к камину и отхлебнув чего-то обжигающего, я не удержался и пристально посмотрел на своего спасителя. Поди, больше уж не свидимся. Засиделся я в этом мире. Так пусть останутся со мной черты его лица. Заурядные, надо сказать. Топорщится ежик белых волос из-под капюшона, смотрят вдаль, или же в стену, стальные глаза. Северянин, должно быть. Что ж, прощай, северянин, пусть это доброе дело тебе зачтется, когда настанет ваш Рагнарради. Я всмотрелся в свою тень, для чего мне пришлось развернуться на скамье, чуть прижмурил глаза, чтобы силуэт расплылся... и прошёл сквозь свою тень. Оказавшись внутри, вытянув ноги к камину и отхлебнув чего-то обжигающего, я не удержался и пристально посмотрел на своего спасителя. Поди, больше уж не свидимся. Засиделся я в этом мире. Так пусть останутся со мной черты его лица. Заурядные, надо сказать. Топорщится ежик белых волос из-под капюшона, смотрят вдаль, или же в стену, стальные глаза. Северянин, должно быть. Что ж, прощай, северянин, пусть это доброе дело тебе зачтется, когда настанет ваш Рагнарради. Я всмотрелся в свою тень, для чего мне пришлось развернуться на скамье, чуть прижмурил глаза, чтобы силуэт расплылся... и прошёл сквозь свою тень.
 На той стороне было почти так же. Дымно — хоть не от сырых дров, а от множества трубок, сигарет, сигар и прочих устройств для вдыхания табачного дыма. Полутьма. Музыка — чуть более резкая, чем лютня, которая плакала на том постоялом дворе, но такая же безыскусная и неназойливая. Широкая скамья, на которой я сидел. Тяжелая кружка, из которой я пил. Я отхлебнул на пробу. Глинтвейн. Деревянная столешница, изрезанная и украшенная множеством пятен. Даже разливанное море от опрокинутой кем-то кружки пива, кажется, сохранило свои очертания, неуклонно приближаясь к краю — ладно хоть, не на траверзе моего живота. А кому же так не повезло? Я бросил косой взгляд — и поперхнулся отменным глинтвейном. Тяжелая ладонь от души приложила мне между лопаток, когда я боролся с удушающим кашлем. Дело в том, что мой попутчик остался на месте. Дорожный плащ сменила черная кожаная куртка, а вместо арбалета, наверное, под нею пряталась не менее смертоносная, но менее архаичная огнестрельная игрушка. Лошадь, должно быть, превратилась в тяжелый мотоцикл, этакое двухколёсное чудовище. Мотоциклы я тоже не люблю... На той стороне было почти так же. Дымно — хоть не от сырых дров, а от множества трубок, сигарет, сигар и прочих устройств для вдыхания табачного дыма. Полутьма. Музыка — чуть более резкая, чем лютня, которая плакала на том постоялом дворе, но такая же безыскусная и неназойливая. Широкая скамья, на которой я сидел. Тяжелая кружка, из которой я пил. Я отхлебнул на пробу. Глинтвейн. Деревянная столешница, изрезанная и украшенная множеством пятен. Даже разливанное море от опрокинутой кем-то кружки пива, кажется, сохранило свои очертания, неуклонно приближаясь к краю — ладно хоть, не на траверзе моего живота. А кому же так не повезло? Я бросил косой взгляд — и поперхнулся отменным глинтвейном. Тяжелая ладонь от души приложила мне между лопаток, когда я боролся с удушающим кашлем. Дело в том, что мой попутчик остался на месте. Дорожный плащ сменила черная кожаная куртка, а вместо арбалета, наверное, под нею пряталась не менее смертоносная, но менее архаичная огнестрельная игрушка. Лошадь, должно быть, превратилась в тяжелый мотоцикл, этакое двухколёсное чудовище. Мотоциклы я тоже не люблю...
 — Благодарствую, добрый человек, — вырвалось у меня на полуавтомате. Полу авто мат — это когда сам себя тихо материшь: ну надо ж было ляпнуть такое! Мир-то явно техногенный, и требовались речи наподобие «Всё о'кей, братан». А так — сойдёшь только за психа. В лучшем случае — за тихого психа. — Благодарствую, добрый человек, — вырвалось у меня на полуавтомате. Полу авто мат — это когда сам себя тихо материшь: ну надо ж было ляпнуть такое! Мир-то явно техногенный, и требовались речи наподобие «Всё о'кей, братан». А так — сойдёшь только за психа. В лучшем случае — за тихого психа.
 — Не стоит благодарности, сударь, — было мне ответом. Ну вот, белобрысый тоже не по-здешнему вежлив. Интересно, он тоже темнила — или здесь мы наблюдаем типический случай зеркального эффекта? И ведь не спросишь. — Не стоит благодарности, сударь, — было мне ответом. Ну вот, белобрысый тоже не по-здешнему вежлив. Интересно, он тоже темнила — или здесь мы наблюдаем типический случай зеркального эффекта? И ведь не спросишь.
 Эффект зеркальный, миррор-флэш, — существование в разных мирах одной грани так называемых двойников, каковые суть копии людей, строений, прочих живых и неживых объектов. Концентрация эффекта максимальна в окрестности стабильной грани, убывает пропорционально третьей степени расстояния от грани, возможны локальные максимумы в точках локального прокола... Эффект зеркальный, миррор-флэш, — существование в разных мирах одной грани так называемых двойников, каковые суть копии людей, строений, прочих живых и неживых объектов. Концентрация эффекта максимальна в окрестности стабильной грани, убывает пропорционально третьей степени расстояния от грани, возможны локальные максимумы в точках локального прокола...
© Владимир Дэйн, Red 2 the Ranger, 2000
© ACCA-Fantasy, 2000
Вернуться на страничку прозы
|