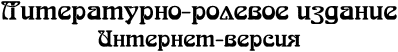В царстве поэзии есть провинция, которая называется рифма. Но сначала напомню читателю о так называемой «клаузуле». Клаузула — это частица, заканчивающая строку. Падая на последний слог, она называется мужской («день»); если у клаузулы ударение на предпоследнем слоге, она называется женской («ступени»); если на третьем от конца — дактилической («валенки»), если на четвертом и далее — гипердактилической («новенькие»).
В царстве поэзии есть провинция, которая называется рифма. Но сначала напомню читателю о так называемой «клаузуле». Клаузула — это частица, заканчивающая строку. Падая на последний слог, она называется мужской («день»); если у клаузулы ударение на предпоследнем слоге, она называется женской («ступени»); если на третьем от конца — дактилической («валенки»), если на четвертом и далее — гипердактилической («новенькие»).
 Клаузулы могут вступать между собой в созвучие. Такое созвучие называется рифмой. Рифмы, подобно клаузулам, в зависимости от ударения бывают мужскими, женскими, дактилическими и гипердактилическими («день — дребедень», «ступени — колени», «валенки — маленький», «новенькие — пятирублевенькие»).
Клаузулы могут вступать между собой в созвучие. Такое созвучие называется рифмой. Рифмы, подобно клаузулам, в зависимости от ударения бывают мужскими, женскими, дактилическими и гипердактилическими («день — дребедень», «ступени — колени», «валенки — маленький», «новенькие — пятирублевенькие»).
 Главное, что нужно знать о рифме, — это деление на бедную и богатую. Например: «день — пень» — рифма бедная, «день — дребедень» или «пень — ступень» — богатая, так как здесь рифмуются не только звуки, идущие от ударения вправо («ень — ень»), но и согласный звук, предшествующий удару («день — дребеДЕНЬ», «пень — стуПЕНЬ»).
Главное, что нужно знать о рифме, — это деление на бедную и богатую. Например: «день — пень» — рифма бедная, «день — дребедень» или «пень — ступень» — богатая, так как здесь рифмуются не только звуки, идущие от ударения вправо («ень — ень»), но и согласный звук, предшествующий удару («день — дребеДЕНЬ», «пень — стуПЕНЬ»).
 К бедным рифмам, как правило, относятся также рифмы глагольные. Это было известно еще Пушкину:
К бедным рифмам, как правило, относятся также рифмы глагольные. Это было известно еще Пушкину:
Вы знаете, что рифмой наглагольной
Гнушаемся мы. Почему, спрошу?
 Да потому, что глагольных рифм такое неисчерпаемое количество, что найти их не составляет никакого труда — они сами лезут на язык, а, как мы знаем из политической экономии, ценность каждой вещи зависит от количества затраченного на ее производство общественно необходимого труда. Правда, иной стихотворец может заявить, что у него-де нередко бывают замечательные находки, а наткнулся он на них совершенно случайно, не затратив ни крови, ни пота. Пушкин писал и об этом:
Да потому, что глагольных рифм такое неисчерпаемое количество, что найти их не составляет никакого труда — они сами лезут на язык, а, как мы знаем из политической экономии, ценность каждой вещи зависит от количества затраченного на ее производство общественно необходимого труда. Правда, иной стихотворец может заявить, что у него-де нередко бывают замечательные находки, а наткнулся он на них совершенно случайно, не затратив ни крови, ни пота. Пушкин писал и об этом:
Ведь рифмы запросто со мной живут;
Две придут сами, третью приведут.
 Но ценность таких самостоятельно пришедших рифм (если они богаты) от этого не снижается, так как здесь перед нами явление «редукции труда» (Маркс): человеку посчастливилось найти то, чего множество людей не могло найти в течение многих лет. Таким образом, найденная драгоценность, случайно попавшая одному, как бы вобрала в себя количество труда всех тех людей, которые в продолжение долгого времени безрезультатно искали ее. Например, найденный нами на улице алмаз обладает ценностью потому, что целые бригады рабочих затратили громадный труд на поиски алмазов, которые, конечно, не валяются на улицах. Поэтому то обстоятельство, что алмаз нашли вы, а не они, с общественной точки зрения дела не меняет: человечество оценивает не данный случай, а закон обычного положения. Именно так обстоит дело и с рифмой. Она приобретает тем большую ценность, чем реже встречается, то есть чем труднее ее раздобыть. Вот почему глагольная рифма «побежал — упал» не может иметь ни малейшей цены. Но та же глагольная, если она бывает глубокой, может считаться и богатой: «будет — позабудет».
Но ценность таких самостоятельно пришедших рифм (если они богаты) от этого не снижается, так как здесь перед нами явление «редукции труда» (Маркс): человеку посчастливилось найти то, чего множество людей не могло найти в течение многих лет. Таким образом, найденная драгоценность, случайно попавшая одному, как бы вобрала в себя количество труда всех тех людей, которые в продолжение долгого времени безрезультатно искали ее. Например, найденный нами на улице алмаз обладает ценностью потому, что целые бригады рабочих затратили громадный труд на поиски алмазов, которые, конечно, не валяются на улицах. Поэтому то обстоятельство, что алмаз нашли вы, а не они, с общественной точки зрения дела не меняет: человечество оценивает не данный случай, а закон обычного положения. Именно так обстоит дело и с рифмой. Она приобретает тем большую ценность, чем реже встречается, то есть чем труднее ее раздобыть. Вот почему глагольная рифма «побежал — упал» не может иметь ни малейшей цены. Но та же глагольная, если она бывает глубокой, может считаться и богатой: «будет — позабудет».
 Рифмы, состоящие из имен прилагательных, встречаются не так часто, как глагольные, но и к ним приложимо то же правило: «стальной — большой» — скверная рифма, потому что лежит на поверхности речи и не требует для своего нахождения ни малейшего усилия. Но рифма «стальной — остальной» уже значительно богаче. И все же рифмовать существительные с существительными, прилагательные с прилагательными, числительные с числительными и т. д. не считается квалифицированной работой — нужно искать сочетания равных грамматических форм. Наречия «где — везде» — плохо, а наречие «везде» и существительное «звезде» — хорошо не только благодаря своим опорным согласным, но потому, что взяты из разных частей речи. Чем примитивнее принцип сочетания клаузул, тем рифма беднее.
Рифмы, состоящие из имен прилагательных, встречаются не так часто, как глагольные, но и к ним приложимо то же правило: «стальной — большой» — скверная рифма, потому что лежит на поверхности речи и не требует для своего нахождения ни малейшего усилия. Но рифма «стальной — остальной» уже значительно богаче. И все же рифмовать существительные с существительными, прилагательные с прилагательными, числительные с числительными и т. д. не считается квалифицированной работой — нужно искать сочетания равных грамматических форм. Наречия «где — везде» — плохо, а наречие «везде» и существительное «звезде» — хорошо не только благодаря своим опорным согласным, но потому, что взяты из разных частей речи. Чем примитивнее принцип сочетания клаузул, тем рифма беднее.
 До сих пор, говоря о рифме, мы имели в виду пусть даже и бедное, но полное сочетание созвучий. Однако созвучие может быть и неполным — тогда его называют ассонансом.
До сих пор, говоря о рифме, мы имели в виду пусть даже и бедное, но полное сочетание созвучий. Однако созвучие может быть и неполным — тогда его называют ассонансом.
 Рыться — укрыться — рифма.
Рыться — укрыться — рифма.
 Рыться — рыцарь — ассонанс.
Рыться — рыцарь — ассонанс.
 Необходимость в ассонансах вызвана не столько исчерпанностью рифмических запасов, сколько тем, что привычные рифмы тянут за собой привычные сочетания мыслей: «любовь» притягивает «кровь», а «знамя» — «пламя». Конец XIX века и начало XX с их предчувствием революции принесли новые переживания, новые думы, поэтому возникла потребность выразить такую новизну, для которой старая структура рифмы становилась уже сковывающей. Ассонансы необычайно расширили оперативный простор поэзии. Если в поэзии автор не хотел бы архаизировать свой язык, рифмуя «радость — младость», то в наши дни к слову «радость» подбираются ассонансы — «градус», «радуг», «кряду» даже «надоть». На своем месте и в определенных смысловых обстоятельствах эти ассонансы прекрасно выражают думы и чувства поэта. Именно это от них и требуется.
Необходимость в ассонансах вызвана не столько исчерпанностью рифмических запасов, сколько тем, что привычные рифмы тянут за собой привычные сочетания мыслей: «любовь» притягивает «кровь», а «знамя» — «пламя». Конец XIX века и начало XX с их предчувствием революции принесли новые переживания, новые думы, поэтому возникла потребность выразить такую новизну, для которой старая структура рифмы становилась уже сковывающей. Ассонансы необычайно расширили оперативный простор поэзии. Если в поэзии автор не хотел бы архаизировать свой язык, рифмуя «радость — младость», то в наши дни к слову «радость» подбираются ассонансы — «градус», «радуг», «кряду» даже «надоть». На своем месте и в определенных смысловых обстоятельствах эти ассонансы прекрасно выражают думы и чувства поэта. Именно это от них и требуется.
 Но следует строго отличать ассонанс от просто-напросто скверного созвучия, которое слабые стихотворцы пытаются выдать за ассонанс: такое созвучие, как «свободных — народов», — это просто фальшивая монета. Открытие ассонанса еще не является правом на плохую рифму, как думают многие халтурщики. «Рыцарь — рыться» — подлинный ассонанс потому, что не может быть рифмой. Напротив, «свободных — народов» легко превращается в рифму «свобода — народа». Какой же смысл коверкать ее? Чем вызвана причина этого членовредительства? Только тем, что автор не справился со своими строчками.
Но следует строго отличать ассонанс от просто-напросто скверного созвучия, которое слабые стихотворцы пытаются выдать за ассонанс: такое созвучие, как «свободных — народов», — это просто фальшивая монета. Открытие ассонанса еще не является правом на плохую рифму, как думают многие халтурщики. «Рыцарь — рыться» — подлинный ассонанс потому, что не может быть рифмой. Напротив, «свободных — народов» легко превращается в рифму «свобода — народа». Какой же смысл коверкать ее? Чем вызвана причина этого членовредительства? Только тем, что автор не справился со своими строчками.
 Ассонансы встречались в народной поэзии еще в старину. Символисты А. Белый, В. Брюсов, А. Блок ввели их в большую литературу. Но особенно много сделал в этой области В. Маяковский. Если народная поэзия вводила ассонансы главным образом в дактилические окончания строк («вЕчера — нЕчего»), если символисты разрабатывали преимущественно женскую клаузулу, то Маяковский стал связывать женские с дактилическими, и открыл, таким образом, целую область новых звукосочетаний: «наголо — нагло», «мерина — мерно», «зеркало — померкло». Этот принцип глубоко вошел в обиход советской поэзии, им пользуется множество стихотворцев. Менее удачными оказались «мужские» ассонансы, открытие которых также принадлежит Маяковскому. Но пока речь шла о словах, плотно пригнанных друг к другу в звуковом отношении («сто — стол», «бобра — обобрать», «молва — болван»), ассонансы этого типа себя оправдывали, но впоследствии поэты стали рифмовать «несу — суп», «гнездо — дом», «лорд — тепло». Это созвучие уже не для уха, а для глаза, то есть, по существу, извращение созвучия. Сочетание мужской клаузулы с женской и даже с гипердактилической разрабатывали конструктивисты: «Вебер — вепрь», «смысл — слышал», «десть — десять», «покровительствовать — по крови». В отрыве от строфы они с непривычки звучат диковато, по в тексте воспринимаются естественно.
Ассонансы встречались в народной поэзии еще в старину. Символисты А. Белый, В. Брюсов, А. Блок ввели их в большую литературу. Но особенно много сделал в этой области В. Маяковский. Если народная поэзия вводила ассонансы главным образом в дактилические окончания строк («вЕчера — нЕчего»), если символисты разрабатывали преимущественно женскую клаузулу, то Маяковский стал связывать женские с дактилическими, и открыл, таким образом, целую область новых звукосочетаний: «наголо — нагло», «мерина — мерно», «зеркало — померкло». Этот принцип глубоко вошел в обиход советской поэзии, им пользуется множество стихотворцев. Менее удачными оказались «мужские» ассонансы, открытие которых также принадлежит Маяковскому. Но пока речь шла о словах, плотно пригнанных друг к другу в звуковом отношении («сто — стол», «бобра — обобрать», «молва — болван»), ассонансы этого типа себя оправдывали, но впоследствии поэты стали рифмовать «несу — суп», «гнездо — дом», «лорд — тепло». Это созвучие уже не для уха, а для глаза, то есть, по существу, извращение созвучия. Сочетание мужской клаузулы с женской и даже с гипердактилической разрабатывали конструктивисты: «Вебер — вепрь», «смысл — слышал», «десть — десять», «покровительствовать — по крови». В отрыве от строфы они с непривычки звучат диковато, по в тексте воспринимаются естественно.
И Марс, оборвавшись на этих хижинах,
Оставит их в покое,
даже будет покровительствовать,
И станет королем у них наемный хищник,
Чужой но вере и по крови.
(«Улялаевщина»)
 Говоря о рифме и ее возможностях, нельзя пройти мимо опыта иранской и вообще восточной поэзии, которая разнообразит ее звучание тем, что помещает рифму самых неожиданных местах. Например, рифмуются предпоследние слова, а последние, называемые в этом случае р е д и ф о м, остаются неизменными:
Говоря о рифме и ее возможностях, нельзя пройти мимо опыта иранской и вообще восточной поэзии, которая разнообразит ее звучание тем, что помещает рифму самых неожиданных местах. Например, рифмуются предпоследние слова, а последние, называемые в этом случае р е д и ф о м, остаются неизменными:
Лицо сокрыла в облаках, себя туманом сделала,
Меня, влюбленного в тебя, ты бездыханным сделала,
О, как я стражду по ночам в безмолвном одиночестве!
Ты с кем опять ведешь игру, кого ты пьяным сделала?
(Хафиз)
 Восточная лирика применяет и анафорическую рифму, то есть созвучие но концов, а начал строк:
Восточная лирика применяет и анафорическую рифму, то есть созвучие но концов, а начал строк:
Азербайджан теперь что овраг,
Арабистан что гора теперь —
— Трудная очень пора теперь.
(«Орла на плече носящий»)
 Кроме обычной рифмы, поэзия знает еще и омонимическую рифму, где фигурирует, в сущности, одно и то же слово, имеющее в разных строках различный смысл:
Кроме обычной рифмы, поэзия знает еще и омонимическую рифму, где фигурирует, в сущности, одно и то же слово, имеющее в разных строках различный смысл:
Мгновенья двигались и стали,
Лишь ты царишь, свой свет струя,
Меж тем в реке из сизой стали
Влачится за струёй струя.
 Есть рифмы составные, — например, знаменитые минаевские «колокол — молоко лакал» или «даже к финским скалам бурым обращаюсь с каламбуром». Бывает и такое созвучие, когда слово одной строки рифмуется с частью слона другой. Обычно стихи этого рода пишутся ради курьеза:
Есть рифмы составные, — например, знаменитые минаевские «колокол — молоко лакал» или «даже к финским скалам бурым обращаюсь с каламбуром». Бывает и такое созвучие, когда слово одной строки рифмуется с частью слона другой. Обычно стихи этого рода пишутся ради курьеза:
Сижу я в кресле
Пишу нижесле
дующие стихи.
 Но иногда такая рифма нужна для широкого распева:
Но иногда такая рифма нужна для широкого распева:
А за ними шайки цветной баранты.
Фуры за фургоны, где кровь да бинты,
Кухни, палатки наряданныя. Щер
батая дюймовочка как допотопный ящер.
 Существует даже так называемая панторифма, где рифмуются строки сплошь, целиком.
Существует даже так называемая панторифма, где рифмуются строки сплошь, целиком.
В Вене две девицы —
Veni, vidi, vici.
 Итак, рифмы разнообразны, как птицы, рыбы, звери. У них свои классы, виды, семейства, Некоторые, как звезды, носят имена своих открывателей. После Пушкина никто не станет рифмовать «со льдом — Чайльд Гарольдом», рифма эта совершенно уникальна. Не очень удобно после Блока писать «улица — сутулится», после Маяковского — «арба — барабан». Однако дело сводится не к тому, чтобы открывать неслыханные рифмы. Поэт Н. Асеев, всегда придававший рифме колоссальное значение, прочитал мой роман «Пушторг»... по рифмам, и роман ему не понравился. В свою очередь я прочитал по рифмам книгу асеевской лирики, и она мне понравилась. Возможно, что оба мы ошиблись с оценках целого. Поэтому естествен вопрос: что же такое рифма не с точки зрения структуры, а в смысле места, занимаемого ею в стихотворении?
Итак, рифмы разнообразны, как птицы, рыбы, звери. У них свои классы, виды, семейства, Некоторые, как звезды, носят имена своих открывателей. После Пушкина никто не станет рифмовать «со льдом — Чайльд Гарольдом», рифма эта совершенно уникальна. Не очень удобно после Блока писать «улица — сутулится», после Маяковского — «арба — барабан». Однако дело сводится не к тому, чтобы открывать неслыханные рифмы. Поэт Н. Асеев, всегда придававший рифме колоссальное значение, прочитал мой роман «Пушторг»... по рифмам, и роман ему не понравился. В свою очередь я прочитал по рифмам книгу асеевской лирики, и она мне понравилась. Возможно, что оба мы ошиблись с оценках целого. Поэтому естествен вопрос: что же такое рифма не с точки зрения структуры, а в смысле места, занимаемого ею в стихотворении?
 Верлен считал, что смысл рифмы сводится к дополнительному звучанию стиха:
Верлен считал, что смысл рифмы сводится к дополнительному звучанию стиха:
О эта рифма! С ней тысяча мук.
Кто нас пленил погремушкой грошовой?
 Не то Маяковский — он видел в рифме организующее начало. «Без рифмы стих распадается!» — утверждал Владимир Владимирович. Но если Верлен недооценивал значение рифмы, то Маяковский его переоценивал. Такие великие произведения, как «Илиада», «Калевала», русские былины, трагедии Эсхила, Шекспира, Пушкина, написаны без рифмы, и тем не менее стих в этих мировых шедеврах необычайно прочен. Правда, иные композиции без рифмы немыслимы — вспомним хотя бы сонет и венки сонетов. Но служба рифмы сводится или, во всяком случае, должна сводиться не только к этому. Прежде всего поставим вопрос: всегда ли звонкая, острая, свежая рифма предпочтительнее стертой, тусклой, приглушенной? Нет, далеко не всегда. Бывают случаи, когда лирическое настроение разрушается оттого, что в стихотворную ткань врезывается блестящее созвучие, которое отвлекает и поэтому раздражает читателя. В поэме С. Кирсанова «Семь дней недели» говорится о том, как человек изобрел новое сердце, которое можно было бы сделать достоянием масс, но бюрократы не обращают внимания на это великое и необходимое человечеству изобретение. Описание мук гениального инженера, которое могло бы под пером Поэта стать потрясающими лирическими строфами, воспаленными, душными, хватающими за сердце, приходит, однако, в противоречие с экспериментальными рифмами, в которые оно заковано:
Не то Маяковский — он видел в рифме организующее начало. «Без рифмы стих распадается!» — утверждал Владимир Владимирович. Но если Верлен недооценивал значение рифмы, то Маяковский его переоценивал. Такие великие произведения, как «Илиада», «Калевала», русские былины, трагедии Эсхила, Шекспира, Пушкина, написаны без рифмы, и тем не менее стих в этих мировых шедеврах необычайно прочен. Правда, иные композиции без рифмы немыслимы — вспомним хотя бы сонет и венки сонетов. Но служба рифмы сводится или, во всяком случае, должна сводиться не только к этому. Прежде всего поставим вопрос: всегда ли звонкая, острая, свежая рифма предпочтительнее стертой, тусклой, приглушенной? Нет, далеко не всегда. Бывают случаи, когда лирическое настроение разрушается оттого, что в стихотворную ткань врезывается блестящее созвучие, которое отвлекает и поэтому раздражает читателя. В поэме С. Кирсанова «Семь дней недели» говорится о том, как человек изобрел новое сердце, которое можно было бы сделать достоянием масс, но бюрократы не обращают внимания на это великое и необходимое человечеству изобретение. Описание мук гениального инженера, которое могло бы под пером Поэта стать потрясающими лирическими строфами, воспаленными, душными, хватающими за сердце, приходит, однако, в противоречие с экспериментальными рифмами, в которые оно заковано:
Шторы опускаются.
Руки опускаются.
Я шепчу:
«Товарищи...»
Но мои товарищи
по домам расходятся,
Потому что, может быть
в мнениях расходятся,
в том, что чудо
может быть
 И т. д.
И т. д.
 Здесь очень интересно разработаны омонимические рифмы. Но они живут в этом отрывке совершенно самостоятельной жизнью и своей необычностью отвлекают внимание от основного нерва поэмы и как бы обескрыливают переживания автора и его героя.
Здесь очень интересно разработаны омонимические рифмы. Но они живут в этом отрывке совершенно самостоятельной жизнью и своей необычностью отвлекают внимание от основного нерва поэмы и как бы обескрыливают переживания автора и его героя.
 Отказаться от хорошей рифмы, даже если этого требуют интересы целого, необычайно трудно. И все же это нужно делать, иначе рифма способна погубить строфу. Дело в том, что в каждом четверостишии — своя тайна: стихи ведь — речь неестественная, поэтому борьба мастера со словом — это борьба укротителя с тигром: малейшая неловкость — и тигр тебя искалечит. В самом деле: две строки из четырех вы пишете так, как вам хочется, третья строка приходит к вам от вашего дарования, четвертая — от вашей бездарности. Вот эту-то четвертую и надо спрятать в любое место, да так, чтобы из нее не вылезали уши. И тут-то больше всего подводит хорошая рифма! Всем своим чутьем поэта я чувствую, например, что Пушкину очень хотелось сказать в своей сказке:
Отказаться от хорошей рифмы, даже если этого требуют интересы целого, необычайно трудно. И все же это нужно делать, иначе рифма способна погубить строфу. Дело в том, что в каждом четверостишии — своя тайна: стихи ведь — речь неестественная, поэтому борьба мастера со словом — это борьба укротителя с тигром: малейшая неловкость — и тигр тебя искалечит. В самом деле: две строки из четырех вы пишете так, как вам хочется, третья строка приходит к вам от вашего дарования, четвертая — от вашей бездарности. Вот эту-то четвертую и надо спрятать в любое место, да так, чтобы из нее не вылезали уши. И тут-то больше всего подводит хорошая рифма! Всем своим чутьем поэта я чувствую, например, что Пушкину очень хотелось сказать в своей сказке:
И царица над царенком,
Как орлица над орленком,
но слово «царенок» слишком унизительно, и, преодолев себя, Пушкин написал:
И царица над ребенком.
 Но и классики не свободны от анекдотов, которые проделывает с ними рифма. У Пушкина в «Пророке» есть такое место:
Но и классики не свободны от анекдотов, которые проделывает с ними рифма. У Пушкина в «Пророке» есть такое место:
Открылись вещие зеницы,
Как у испуганной орлицы.
 Почему здесь орлица, а не орел: пророк-то ведь мужчина! Увы — Пушкин не нашел, очевидно, ничего более подходящего. Еще обиднее получилось со стихами Лермонтова;
Почему здесь орлица, а не орел: пророк-то ведь мужчина! Увы — Пушкин не нашел, очевидно, ничего более подходящего. Еще обиднее получилось со стихами Лермонтова;
Терек прыгает, как львица,
С косматой гривой на хребте.
 Поэт-юморист А. Измайлов справедливо заметил, что у львицы... гривы не бывает: это особенность льва.
Поэт-юморист А. Измайлов справедливо заметил, что у львицы... гривы не бывает: это особенность льва.
 Рифма должна знать свое место! Она обязана быть слугой строфы, раскрывая смысл ее и сочувствуя ее настроению. Об этом писал еще Буало в своем «Искусстве поэтики»:
Рифма должна знать свое место! Она обязана быть слугой строфы, раскрывая смысл ее и сочувствуя ее настроению. Об этом писал еще Буало в своем «Искусстве поэтики»:
Избрав любой сюжет, смешной или высокий,
Вы с рифмой сочетать старайтесь смысл глубокий.
Лишь с виду им вражда как будто суждена,
Но рифма есть раба и слушаться должна.
(Перевод Адуева)
 Конечно, нельзя требовать от рифмы больше, чем она может дать, да и вообще любой прием, проводимый с педантической придирчивостью, способен загубить самое лучшее произведение. Но при прочих равных условиях я, например, в своей практике всегда слежу за тем, чтобы рифма не только связывала строки в строфу, но и подыгрывала ей.
Конечно, нельзя требовать от рифмы больше, чем она может дать, да и вообще любой прием, проводимый с педантической придирчивостью, способен загубить самое лучшее произведение. Но при прочих равных условиях я, например, в своей практике всегда слежу за тем, чтобы рифма не только связывала строки в строфу, но и подыгрывала ей.
 Приходилось ли вам читать стихи молодых, посвященные Маяковскому? Стихи эти, сплошь и рядом написанные в старой манере, которую Маяковский ненавидел, изобилуют штампованными рифмами типа «кровь — любовь» и «знамя — пламя». Читать такие вещи нестерпимо. В своем стихотворении «Памятник самоубийце» я наткнулся на одну банальную рифму, которая нахально требовала, чтобы ее впустили в строфу. Приведу начало:
Приходилось ли вам читать стихи молодых, посвященные Маяковскому? Стихи эти, сплошь и рядом написанные в старой манере, которую Маяковский ненавидел, изобилуют штампованными рифмами типа «кровь — любовь» и «знамя — пламя». Читать такие вещи нестерпимо. В своем стихотворении «Памятник самоубийце» я наткнулся на одну банальную рифму, которая нахально требовала, чтобы ее впустили в строфу. Приведу начало:
Жажда власти и жажда славы —
Это только жажда любви!
Над гранитом брезентовый саван
Серебристым тросом обвит,
У гранита цветы и толпы...
Грянул марш!
Опадает брезент —
И открылся бронзовый, теплый
Ты!
 Кто — ты? Ну, ясно кто: сама собой на слово «брезент» напрашивается рифма «монумент». Однако ввести в такое стихотворение такую пару значило бы нанести оскорбление памяти Владимира Владимировича. Как с этим не считаться? Я стал искать вариаций, и строка зазвучала так:
Кто — ты? Ну, ясно кто: сама собой на слово «брезент» напрашивается рифма «монумент». Однако ввести в такое стихотворение такую пару значило бы нанести оскорбление памяти Владимира Владимировича. Как с этим не считаться? Я стал искать вариаций, и строка зазвучала так:
Ты! Эпохи своей образец.
 Ассонанс «брезент — образец» в данном месте данного стихотворения, по-моему, гораздо более уместен. Напротив, в эпиграмме на стихотворца, применяющего штампованные рифмы, я выдержал созвучие в его же стиле:
Ассонанс «брезент — образец» в данном месте данного стихотворения, по-моему, гораздо более уместен. Напротив, в эпиграмме на стихотворца, применяющего штампованные рифмы, я выдержал созвучие в его же стиле:
Парень истину познал,
Парень обществу сказал:
«Дважды два — реализм,
Два в квадрате — формализм».
 Проследим за развитием локальной рифмовки на каком-нибудь более обширном материале. Возьмем «Охоту па тигра». Основную рифмическую массу баллады я старался выдержать на уровне добротной плотницкой работы: «рев — коров», «головой — вой», «ручьи — рогачи»:
Проследим за развитием локальной рифмовки на каком-нибудь более обширном материале. Возьмем «Охоту па тигра». Основную рифмическую массу баллады я старался выдержать на уровне добротной плотницкой работы: «рев — коров», «головой — вой», «ручьи — рогачи»:
В рыжем лесу звериный рев:
Изюбрь окликает коров;
Другой с коронованной головой
Отзывается воем на вой.
И вот сквозь кусты и через ручьи
На поединок летят рогачи.
 В дальнейшем рифма строится но той же линии. Но в отдельных, наиболее характерных местах роль ее видоизменяется. Прежде всего ход событий влияет на ее сущность. Как мы видели, первая строфа строится на мужских рифмах. Это придает сцене сжатость и собранность: дана экспозиция — ожидание боя. Во второй строфе идет нарастание темы — дается рисунок оленя, вызывающего соперника на поединок. Здесь у строфы дыхание шире, и рифма переходит в конце на женскую:
В дальнейшем рифма строится но той же линии. Но в отдельных, наиболее характерных местах роль ее видоизменяется. Прежде всего ход событий влияет на ее сущность. Как мы видели, первая строфа строится на мужских рифмах. Это придает сцене сжатость и собранность: дана экспозиция — ожидание боя. Во второй строфе идет нарастание темы — дается рисунок оленя, вызывающего соперника на поединок. Здесь у строфы дыхание шире, и рифма переходит в конце на женскую:
Важенки робко стоят бочком
За венценосным быком.
Его плечи и грудь покрывает грязь,
Скрывая гнедой окрас, —
И он, оскорбляя соперника басом,
Дует в ноздри и водит глазом.
 Строфа третья. Навстречу оленю выходит другой. Этот еще грандиозней первого. Тут рифма сразу же переходит на дактилическую и даже гипердактилическую, чтобы дать ощущение непомерной мощи этого животного:
Строфа третья. Навстречу оленю выходит другой. Этот еще грандиозней первого. Тут рифма сразу же переходит на дактилическую и даже гипердактилическую, чтобы дать ощущение непомерной мощи этого животного:
И вот выходит, огромный, как лось.
Шею вдвое напруживая
До третьих сучьев поразрослось,
Каменное оружие.
 Достигнув как бы предела в изображении силы зверя, стихотворение дает резкий спад в теме. Это отражается прежде всего на ритме: в тактовом стихе появляется темп, напоминающий четырехстопный ямб:
Достигнув как бы предела в изображении силы зверя, стихотворение дает резкий спад в теме. Это отражается прежде всего на ритме: в тактовом стихе появляется темп, напоминающий четырехстопный ямб:
В такие дни, не чуя ног,
Иди в росе по колени...
 Это же отражается на рифме, которая слова пришла к сочетанию мужских и женских:
Это же отражается на рифме, которая слова пришла к сочетанию мужских и женских:
ног
колени
манок
оленя
зубра
изюбря.
 Строфа пятая. В теме идут поиски оленя человеком. Оленя еще пет. Рифма дается спокойная, ровная:
Строфа пятая. В теме идут поиски оленя человеком. Оленя еще пет. Рифма дается спокойная, ровная:
начадив
на ночь
начдив
Иваныч.
 В шестой строфе ожидание становится уже напряженным. Это выразилось в полном отсутствии рифмы, и это я считаю наиболее характерной клаузулой во всем стихотворении:
В шестой строфе ожидание становится уже напряженным. Это выразилось в полном отсутствии рифмы, и это я считаю наиболее характерной клаузулой во всем стихотворении:
Охотник дунул, Тишина.
Дунул еще. Тишина.
 Следующая строфа говорит о внезапной встрече с тигром: ждали оленя, который отозвался было на манок, но вместо него появился хищник. Эту неожиданность и быстроту, эту ошибку рифма отметила так:
Следующая строфа говорит о внезапной встрече с тигром: ждали оленя, который отозвался было на манок, но вместо него появился хищник. Эту неожиданность и быстроту, эту ошибку рифма отметила так:
вихря
тигра
 Приведу строфу — целиком:
Приведу строфу — целиком:
И вдруг меж корней — в травяном горизонте
Вспыхнула призраком вихря
Золотая. Закатная. Усатая, как солнце.
Жаркая морда
Тигра.
Полный балдеж во блаженном успеньи —
Даже... выстрелить не успели.
 Читатель, вероятно, заметил, что растерянность охотников дана в неточной рифме: «успеньи — успели».
Читатель, вероятно, заметил, что растерянность охотников дана в неточной рифме: «успеньи — успели».
 Пойдем за сюжетом дальше. Итак, охотники подманивали оленя, подражая его реву. На этот зов отозвался голос оленя; когда же он приблизился вплотную, вдруг оказалось, что вместо оленя возник тигр. Недоразумение скоро выяснилось: оказывается, тигр сам подражает оленьему реву, чтобы подманить рогача к себе. Этот момент вызывает у автора лирический восторг:
Пойдем за сюжетом дальше. Итак, охотники подманивали оленя, подражая его реву. На этот зов отозвался голос оленя; когда же он приблизился вплотную, вдруг оказалось, что вместо оленя возник тигр. Недоразумение скоро выяснилось: оказывается, тигр сам подражает оленьему реву, чтобы подманить рогача к себе. Этот момент вызывает у автора лирический восторг:
Милый! Умница! Он был охотник
Он применял, как и мы, «манок»,
 Дальше идут сложные ассоциации, сравнения, образы, которые уводят далеко в сторону от темы; когда же понадобилось вернуться к ней, автор резко применил диссорифмы:
Дальше идут сложные ассоциации, сравнения, образы, которые уводят далеко в сторону от темы; когда же понадобилось вернуться к ней, автор резко применил диссорифмы:
монах
девичью
«манок»
давеча.
 Проверим правильность этого хода на тексте:
Проверим правильность этого хода на тексте:
Как ему, бедному, было тяжко!
Как он, должно быть, страдал, рыча!
Иметь. Во рту. Призыв. Рогача —
И не иметь в клыках его ляжки.
Пожалуй, издавши изюбревый зык.
Он первое время хватал свои язык.
Так, вероятно, китайский монах,
Косу свою лаская, как девичью,
Стонет...
Но гольд вынимает «манок»
(Теперь он суровей, чем давеча),
Гольд выдувает возглас оленя,
Тигр глянул — и нет умиленья.
Остается сказать о финале. Тигр подстрелен, но не убит.
Но миг — и он снова пред нами, как миф,
Раскатом нас огромив.
И вслед за октавой, глубокой, как Гендель,
Харкнув на нас горячо,
Он ушел в туман.
Величавой легендой.
С красной лентой.
Через плечо.
 Читатель, надеюсь, обратил внимание на то, что слово «лента», поставленное внутри строки, могло бы стоять где-нибудь в конце и спокойно рифмоваться со словом «легенда», заменив таким образом сложную ассоциацию с Генделем. Для читателя ясно, что автор привлек Генделя не за отсутствием рифмы. Зачем же автору понадобился этот композитор XVIII века, писавший глубокие и величавые гимны и хоралы? Это объяснить уже значительно труднее, чем все предыдущее. Дело в том, что в балладе все время шло совершенно реалистическое описание удивительного случая, когда тигр, охотясь за оленем, проявил такую тонкость ума, какой в зверином мире не наблюдается. Но не ради этого казуса написал я свою балладу. Для меня в этом тигре была воплощена идея гения и его судьбы. В старом варианте я говорил об этом прямо:
Читатель, надеюсь, обратил внимание на то, что слово «лента», поставленное внутри строки, могло бы стоять где-нибудь в конце и спокойно рифмоваться со словом «легенда», заменив таким образом сложную ассоциацию с Генделем. Для читателя ясно, что автор привлек Генделя не за отсутствием рифмы. Зачем же автору понадобился этот композитор XVIII века, писавший глубокие и величавые гимны и хоралы? Это объяснить уже значительно труднее, чем все предыдущее. Дело в том, что в балладе все время шло совершенно реалистическое описание удивительного случая, когда тигр, охотясь за оленем, проявил такую тонкость ума, какой в зверином мире не наблюдается. Но не ради этого казуса написал я свою балладу. Для меня в этом тигре была воплощена идея гения и его судьбы. В старом варианте я говорил об этом прямо:
И мы увидали, глазам не веря,
Батальный прием гениального зверя.
 Затем я отказался от декларации идеи «в лоб» и решил перенести мысль в самую поэтическую ткань:
Затем я отказался от декларации идеи «в лоб» и решил перенести мысль в самую поэтическую ткань:
Вслед за октавой глубокой, как Гендель.
 Строка, передавая словом «октава» глубину тигриного баса, очень естественно подымается до «глубины Генделя», значение и гениальность которого создают образ возвышенной величавости и намекают на то, что дело в этой балладе сводится не только к тигру. Но чтобы стихотворение не ушло в абстрактную символику, я в следующей же строке даю натуралистическую подробность:
Строка, передавая словом «октава» глубину тигриного баса, очень естественно подымается до «глубины Генделя», значение и гениальность которого создают образ возвышенной величавости и намекают на то, что дело в этой балладе сводится не только к тигру. Но чтобы стихотворение не ушло в абстрактную символику, я в следующей же строке даю натуралистическую подробность:
Харкнув на нас горячо.
 (Кстати: октава и харканье довольно точно определяют характер короткого тигриного рычания). Следовательно, сравнение с Генделем не вывело меня из рамок рассказа о действительном происшествии в тайге. После этого я уже мог поднять рокот труб и грохот литавр и под торжественный марш создать апофеоз: величавый уход окровавленного, но не уничтоженного тигра. Следует прибавить, что привлечение имени композитора к такой сугубо таежной теме было подготовлено в стихотворении задолго до финала:
(Кстати: октава и харканье довольно точно определяют характер короткого тигриного рычания). Следовательно, сравнение с Генделем не вывело меня из рамок рассказа о действительном происшествии в тайге. После этого я уже мог поднять рокот труб и грохот литавр и под торжественный марш создать апофеоз: величавый уход окровавленного, но не уничтоженного тигра. Следует прибавить, что привлечение имени композитора к такой сугубо таежной теме было подготовлено в стихотворении задолго до финала:
Строфа № 14
Громкие галки над ним летали,
Как черные ноты рычанья его:
Строфа № 15
Он шел но склону военным шагом.
Все плечо выдвигая вперед.
Он шел, высматривая по оврагам,
Где какой олений народ —
И в голубые струнки усов
Ловко цедил... изюбревый зов.
 Образы «нот» и «струнок» как бы прокладывают подъездные пути к «октаве», а затем и к имени Генделя.
Образы «нот» и «струнок» как бы прокладывают подъездные пути к «октаве», а затем и к имени Генделя.
 Могут сказать: все эти тонкости работы над рифмой без авторских комментариев читателю непонятны. Не играют ли они ту же роль, что и всякие вышивки на внутренней стороне одежды, о которых говорил Марсель Пруст, когда описывал туалет своей Одетты? Отвечаю: да, читатель, предоставленный самому себе, не разобрался бы в рифмах моей баллады. Но после раскрытия мной самого принципа «локальности» рифмы он станет в дальнейшем разбираться вполне самостоятельно. Однако дело даже не в этом. Искусство воспринимается не одним лишь рассудком, но чувствами, ассоциациями, рефлексами, целым комплексом очень сложных ощущений, иногда подсознательных. Тем оно для человека и дорого, что вызывает в нем высокую волну духовной жизни, где есть все — от прямой логики до теин воспоминаний. Разобраться во всем этом подробно он не в состоянии, но огненные токи, проходящие но его нервам от нервов художника, дают ему то эстетическое переживание, ради которого он так тянется к искусству. Мы не знаем всех тайн мастерства Тициана, Бетховена, Родена, но мы чувствуем неопровержимую правоту их артистизма и очень легко отличаем от него жиденькую поэтику ремесленников, которые ведь тоже несут в свое дело какую-то свою правденку. В искусстве каждое переживание выплескивается не просто кровью из аорты, а требует для своего выхода формы, формы, формы, которую надо найти, которую надо каждый раз изобретать. Пусть читатель, не втянутый в мою поэтическую кухню, не заметит всей моей игры на рифмах. Но если он почувствует все изгибы развития темы, если переживания поэта передадутся ему не только в целом, но и в деталях, то в этом приняла участие и работа автора над локальностью, которую читатель воспринял подсознательно.
Могут сказать: все эти тонкости работы над рифмой без авторских комментариев читателю непонятны. Не играют ли они ту же роль, что и всякие вышивки на внутренней стороне одежды, о которых говорил Марсель Пруст, когда описывал туалет своей Одетты? Отвечаю: да, читатель, предоставленный самому себе, не разобрался бы в рифмах моей баллады. Но после раскрытия мной самого принципа «локальности» рифмы он станет в дальнейшем разбираться вполне самостоятельно. Однако дело даже не в этом. Искусство воспринимается не одним лишь рассудком, но чувствами, ассоциациями, рефлексами, целым комплексом очень сложных ощущений, иногда подсознательных. Тем оно для человека и дорого, что вызывает в нем высокую волну духовной жизни, где есть все — от прямой логики до теин воспоминаний. Разобраться во всем этом подробно он не в состоянии, но огненные токи, проходящие но его нервам от нервов художника, дают ему то эстетическое переживание, ради которого он так тянется к искусству. Мы не знаем всех тайн мастерства Тициана, Бетховена, Родена, но мы чувствуем неопровержимую правоту их артистизма и очень легко отличаем от него жиденькую поэтику ремесленников, которые ведь тоже несут в свое дело какую-то свою правденку. В искусстве каждое переживание выплескивается не просто кровью из аорты, а требует для своего выхода формы, формы, формы, которую надо найти, которую надо каждый раз изобретать. Пусть читатель, не втянутый в мою поэтическую кухню, не заметит всей моей игры на рифмах. Но если он почувствует все изгибы развития темы, если переживания поэта передадутся ему не только в целом, но и в деталях, то в этом приняла участие и работа автора над локальностью, которую читатель воспринял подсознательно.
 Стихотворение подобно самолету. В нем есть и остов, и крылья, и хвостовое оперение, и сложные внутренние органы. Очертания его создавались черта за чертой целыми поколениями с древнейших времен, они прошли множество самых разнообразных структур и порой достигали высокого развития, И все же самый совершенный аэроплан, обладающий великолепными летными качествами, всего-навсего конструктивное сооружение — он мертв, как и всякая техника. Живым делает его душа пилота, который входит в эту сложную конструкцию, свободно распоряжается ее аппаратурой и дает самолету мысль и волю. В этом сходство пилота с поэтом. Ведь и стихотворение мертво, покуда не одухотворено чувствами автора. И оно может взлететь только тогда, когда внутри его дышит живой человек. Но для высокого полета нужно, чтобы человек этот, как и пилот, умел свободно распоряжаться техникой стиха. Для этого надо хорошо знать его анатомию.
Стихотворение подобно самолету. В нем есть и остов, и крылья, и хвостовое оперение, и сложные внутренние органы. Очертания его создавались черта за чертой целыми поколениями с древнейших времен, они прошли множество самых разнообразных структур и порой достигали высокого развития, И все же самый совершенный аэроплан, обладающий великолепными летными качествами, всего-навсего конструктивное сооружение — он мертв, как и всякая техника. Живым делает его душа пилота, который входит в эту сложную конструкцию, свободно распоряжается ее аппаратурой и дает самолету мысль и волю. В этом сходство пилота с поэтом. Ведь и стихотворение мертво, покуда не одухотворено чувствами автора. И оно может взлететь только тогда, когда внутри его дышит живой человек. Но для высокого полета нужно, чтобы человек этот, как и пилот, умел свободно распоряжаться техникой стиха. Для этого надо хорошо знать его анатомию.
 Основой стихотворения является строка. То или иное закономерное сочетание строк образует строфу. Соединение строф по тому пли иному принципу создает конструкцию. Конструкция — это технический облик стихотворения в целом.
Основой стихотворения является строка. То или иное закономерное сочетание строк образует строфу. Соединение строф по тому пли иному принципу создает конструкцию. Конструкция — это технический облик стихотворения в целом.
 Стихотворение может состоять из одной-единственной строки:
Стихотворение может состоять из одной-единственной строки:
Пляшут изящно оне, лепокудрые дщери Зевеса.
 Здесь поэт Л. Мей хотел выразить ощущение древнегреческой фрески. На такой же одной строке со скандалом вошел в литературу молодой Валерий Брюсов.
Здесь поэт Л. Мей хотел выразить ощущение древнегреческой фрески. На такой же одной строке со скандалом вошел в литературу молодой Валерий Брюсов.
О, закрой свои бледные ноги!
 Стихотворение в одну строку бывает очень уместным в юмористическом жанре.
Стихотворение в одну строку бывает очень уместным в юмористическом жанре.
 Афоризм караимского философа Бабакай-Суддука:
Афоризм караимского философа Бабакай-Суддука:
Лучше недо-, чем пере-.
 Но можно вложить в одну строку и большой, серьезный сюжет. Советский поэт А. Гатов создал такое эпическое произведение, назвав его «Повесть»:
Но можно вложить в одну строку и большой, серьезный сюжет. Советский поэт А. Гатов создал такое эпическое произведение, назвав его «Повесть»:
Он в зеркало смотрел, как в уголовный кодекс.
 За этой строкой открывается глубокое содержание, вполне оправдывающее эту экстравагантную форму. Есть у Пабло Пикассо рисунки, в которых он одним росчерком, без всяких теней и ретуши, дает не только очертания человека, но и всю его натуру. Такие рисунки напоминает мне эта замечательная гатовская строчка.
За этой строкой открывается глубокое содержание, вполне оправдывающее эту экстравагантную форму. Есть у Пабло Пикассо рисунки, в которых он одним росчерком, без всяких теней и ретуши, дает не только очертания человека, но и всю его натуру. Такие рисунки напоминает мне эта замечательная гатовская строчка.
 Она вполне закончена и не требует комментариев. Сравните с ней любую строчку из любого стихотворения, ну хотя бы такую: «Накрапывало, но не гнулись...» — и вы сразу же поймете всю композиционную природу строки Гатова.
Она вполне закончена и не требует комментариев. Сравните с ней любую строчку из любого стихотворения, ну хотя бы такую: «Накрапывало, но не гнулись...» — и вы сразу же поймете всю композиционную природу строки Гатова.
 Есть стихотворения в две строки. Обычно они называются дистихами и представляют собой сентенцию или афоризм.
Есть стихотворения в две строки. Обычно они называются дистихами и представляют собой сентенцию или афоризм.
Дистих
Женщины все изменяют, и даже такие, как Муза,
Лишь неизменна одна, да и та потаскуха — Смерть.
 Однако в более или менее длинном стихотворении, составленном из двустиший, две строки составляют уже не конструкцию, а простой строительный материал, подобно кирпичу в здании:
Однако в более или менее длинном стихотворении, составленном из двустиший, две строки составляют уже не конструкцию, а простой строительный материал, подобно кирпичу в здании:
Ехал из ярмарки ухарь-купец,
Ухарь-купец, удалой молодец.
Вздумал деревню гульбой удивить,
Стал он на двор лошадей накормить,
Потчует старых и малых вином:
«Пей — пропивай! Проживем — наживем!»
(Никитин)
 Здесь каждая пара строк не является отдельным стихотворением, а входит в структуру целого. В этом качестве такие пары составляют только строфу. Строфа может состоять из трех строк (терцета). Но наиболее популярными являются четыре строки. Строфа из четырех строк носит название кватрины или катрена. Катрен бывает самостоятельным стихотворением. Например:
Здесь каждая пара строк не является отдельным стихотворением, а входит в структуру целого. В этом качестве такие пары составляют только строфу. Строфа может состоять из трех строк (терцета). Но наиболее популярными являются четыре строки. Строфа из четырех строк носит название кватрины или катрена. Катрен бывает самостоятельным стихотворением. Например:
На берегу морском лежит весло
И больше говорит мне о просторе,
Чем все огромное сверкающее море,
Которое его на берег принесло.
(Л. Озеров)
 Но, как правило, катрен служит основным строфическим элементом стихотворения. Значение катрена настолько велико, что, несмотря на все бури, которым подверглась поэзия за последние полвека, он остался на своем посту и до сих пор является любимой строфой поэтов всех школ, течений и направлений России. Много значит здесь то, что катрен по своей структуре допускает самые разнообразные комбинации в зависимости от характера чередования рифм. Есть катрены с перекрестной рифмой:
Но, как правило, катрен служит основным строфическим элементом стихотворения. Значение катрена настолько велико, что, несмотря на все бури, которым подверглась поэзия за последние полвека, он остался на своем посту и до сих пор является любимой строфой поэтов всех школ, течений и направлений России. Много значит здесь то, что катрен по своей структуре допускает самые разнообразные комбинации в зависимости от характера чередования рифм. Есть катрены с перекрестной рифмой:
Повсюду честный человек,
Повсюду верный сын отчизны,
Он проживет и кончит век,
Как друг добра, без укоризны.
(А. Рылеев)
 Здесь рифмы идут крест-накрест: «человек — отчизны — век — укоризны». Есть катрен с опоясывающей рифмой:
Здесь рифмы идут крест-накрест: «человек — отчизны — век — укоризны». Есть катрен с опоясывающей рифмой:
Два чувства дивно близки нам —
В них обретает сердце пищу —
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.
(Пушкин)
 Рифмы «нам — пищу — пепелищу — гробам» как бы образуют внутри строфы пояс. Есть, далее, катрены с парными рифмами:
Рифмы «нам — пищу — пепелищу — гробам» как бы образуют внутри строфы пояс. Есть, далее, катрены с парными рифмами:
Я мало жил и жил в плену,
Таких две жизни за одну,
Но только полную тревог,
Я променял бы, если б мог.
(Лермонтов)
 Существует восточное четверостишие — рубайи, в котором рифмуются первая, вторая и четвертая строки, а третья остается свободной:
Существует восточное четверостишие — рубайи, в котором рифмуются первая, вторая и четвертая строки, а третья остается свободной:
Вот за гончарным кругом у дверей
Гончар все веселее и бодрей
В ладонях лепит грубые кувшины
Из бедер бедняков и черепов царей.
(Омар Хайям)
 Могут быть строфы в 5, 6, 7, 8, 9, 10 и даже 15 строк. Но в этих случаях они соединяются в более или менее сложные архитектурные чертежи. Из композиционных фигур следует отметить следующие:
Могут быть строфы в 5, 6, 7, 8, 9, 10 и даже 15 строк. Но в этих случаях они соединяются в более или менее сложные архитектурные чертежи. Из композиционных фигур следует отметить следующие:
 А) Терцины. Три строки входят в понятие терцета. Терцет может быть организован по любому принципу. Вот терцеты С. Кирсанова:
А) Терцины. Три строки входят в понятие терцета. Терцет может быть организован по любому принципу. Вот терцеты С. Кирсанова:
И вдруг почернели стекла.
и вот мы в пещере горной,
в вагоне для невидимок.
И словно во мраке щелкнул
фотоаппарат затвором,
оставив мгновенный снимок.
 Эти терцеты связаны между собой рифмами а-б-в а-б-в, но ни с предыдущими строфами, ни с последующими они формальной связи не имеют. Но есть терцеты, которые, как звенья цепи, переходят одна в другую:
Эти терцеты связаны между собой рифмами а-б-в а-б-в, но ни с предыдущими строфами, ни с последующими они формальной связи не имеют. Но есть терцеты, которые, как звенья цепи, переходят одна в другую:
Шесть золотистых мраморных колонн,
Безбрежная зеленая долина,
Ливан в снегу и неба синий склон.
Я видел Нил и Сфинкса-исполина,
Я видел пирамиды: ты сильней,
Прекрасней, допотопная руина!
Там глыбы желто-пепельных камней,
Забытые могилы в океане
Нагих песков. Здесь радость юных дней.
Патриархально-царственные ткани —
Снегов и скал продольные ряды —
Лежат, как пестрый талес, на Ливане.
Под ним луга, зеленые сады
И сладостный, как горная прохлада,
Шум быстрой малахитовой воды.
Под ним стоянка первого номада.
И пусть она забвенна и пуста:
Бессмертным солнцем светит колоннада.
В блаженный мир ведут се врата.
(Бунин)
 Такие терцеты называются терцинами. Схема их такова: а-б-а б-в-б в-г-в г-д-г — и так далее до финала, который имеет форму катрена. В вышеприведенном примере автор, чтобы не нарушить стиля терцин, вывел заключительную строку за пределы этой трехстрочной формы.
Такие терцеты называются терцинами. Схема их такова: а-б-а б-в-б в-г-в г-д-г — и так далее до финала, который имеет форму катрена. В вышеприведенном примере автор, чтобы не нарушить стиля терцин, вывел заключительную строку за пределы этой трехстрочной формы.
 Терцинами написана знаменитая «Божественная комедия» Данте.
Терцинами написана знаменитая «Божественная комедия» Данте.
 Б) Октава. Эта строфа состоит из восьми строк, построенных в следующей схеме: а-б-а-б-а-б-в-в.
Б) Октава. Эта строфа состоит из восьми строк, построенных в следующей схеме: а-б-а-б-а-б-в-в.
Четырехстопный ямб мне надоел:
Им пишет всякий. Мальчикам в забаву
Пора б его оставить. Я хотел
Давным-давно приняться за октаву.
А в самом деле: я бы совладел
С тройным созвучием. Пущусь па славу!
Ведь рифмы запросто со мной живут;
Две придут сами, третью приведут.
 «Тройное созвучие» октавы, о котором говорит Пушкин, — это три пары рифм: «надоел — забаву — хотел — октаву — совладел — славу», за ними следует концевое созвучие в виде отдельной Пары: «живут — приведут».
«Тройное созвучие» октавы, о котором говорит Пушкин, — это три пары рифм: «надоел — забаву — хотел — октаву — совладел — славу», за ними следует концевое созвучие в виде отдельной Пары: «живут — приведут».
 В) Триолет. Очень изящна форма триолета.
В) Триолет. Очень изящна форма триолета.
Господь, закрой уста поэта
На срок, когда не любит он.
Пускай зима. Дождемся лета.
Господь, закрой уста поэта.
Полюбит он, и песня эта
Нам будет радость и закон.
Господь, закрой уста поэта
На срок, когда не любит он.
(Им Рукавишников)
 Строго говоря, триолет это растянутый повторами катрен:
Строго говоря, триолет это растянутый повторами катрен:
Господь, закрой уста поэта
На срок, когда не любит он.
Полюбит он, и песня эта
Нам будет радость и закон.
 Вот и все, что хотел сказать автор. Но, повторив начало в конце и протянув ниточкой в середину вторую строку все того же начала, автор получил целую конструкцию, не лишенную, повторяю, музыкальной прелести. Примерно к той же задаче сводятся канцоны и рондо.
Вот и все, что хотел сказать автор. Но, повторив начало в конце и протянув ниточкой в середину вторую строку все того же начала, автор получил целую конструкцию, не лишенную, повторяю, музыкальной прелести. Примерно к той же задаче сводятся канцоны и рондо.
 Г) Баллада. Есть два вида баллад. Форма первого вида совершенно произвольна; сущность ее — в содержании, которое должно обладать фантастическим или героическим сюжетом. Форма второго, напротив, сводится исключительно к строфической композиции.
Г) Баллада. Есть два вида баллад. Форма первого вида совершенно произвольна; сущность ее — в содержании, которое должно обладать фантастическим или героическим сюжетом. Форма второго, напротив, сводится исключительно к строфической композиции.
Баллада Игоря Михайлова:
Скажи, откуда сила в нем такая,
в напеве паровозного гудка,
когда, тебя средь ночи окликая,
к тебе примчится он издалека?
Иль это голос дальних городов,
что без тебя томятся, одиноки, —
неторопливый и протяжный зов,
ночной гудок призывный и далекий?
Иль это друг, утраченный давно,
из прошлого, как с края мирозданья,
стучится требовательно в окно
невидимой рукой воспоминанья?
Иль намекает сердцу, что близки
какой-то важной перемены сроки,
скрестив лучи надежды и тоски,
ночной гудок, призывный и далекий?
Иль это память давних вечеров —
глухого бормотанья горной речки,
потрескиванья пляшущих костров
и пахнущей дымком перловой сечки?
Он учит жить, свободой дорожа,
он своеволия дает уроки,
он входит в душу лезвием ножа —
ночной гудок, призывный и далекий.
А может, это крик твоей души?
В нем обещанье и предупрежденье:
спеши работать, жить, любить спеши,
прислушайся: шуршат, текут мгновенья...
Какая ярость молодости в нем —
знакомства, встречи, дальние дороги...
как слушать хорошо тебя вдвоем,
ночной гудок, призывный и далекий!
Так пусть, друзья, вы вспомните не раз
вот эти тронутые грустью строки,
когда он донесется вдруг до вас —
ночной гудок, призывный и далекий...
 Как видим, баллада состоит из ряда строф, каждая из которых представляет собой восьмистишье, «обращение» же (еnvoi), или, как принято говорить, «посылка» занимает четверостишие, выделенное в самостоятельный катрен. Последняя строчка строфы № 1 повторяется как припев, пли рефрен, во всех остальных строфах, заканчивая их. Есть баллады более сложные, как, например, у М. Кузмина, который всю балладу затягивает в три рифмы. Возможны и другие рифмические ходы.
Как видим, баллада состоит из ряда строф, каждая из которых представляет собой восьмистишье, «обращение» же (еnvoi), или, как принято говорить, «посылка» занимает четверостишие, выделенное в самостоятельный катрен. Последняя строчка строфы № 1 повторяется как припев, пли рефрен, во всех остальных строфах, заканчивая их. Есть баллады более сложные, как, например, у М. Кузмина, который всю балладу затягивает в три рифмы. Возможны и другие рифмические ходы.
 Форма этой так называемой «французской» баллады почти не разрабатывалась в России, тогда как баллада первого типа, начиная со времен Жуковского, пользовалась большим вниманием наших поэтов. Особенное развитие получила она в эпоху Великой Отечественной войны.
Форма этой так называемой «французской» баллады почти не разрабатывалась в России, тогда как баллада первого типа, начиная со времен Жуковского, пользовалась большим вниманием наших поэтов. Особенное развитие получила она в эпоху Великой Отечественной войны.
 Д) Газелла, или газель. Восточная строфа, чрезвычайно интересно организованная. Разберем газеллу Рудаки, иранского поэта, жившего тысячелетие назад:
Д) Газелла, или газель. Восточная строфа, чрезвычайно интересно организованная. Разберем газеллу Рудаки, иранского поэта, жившего тысячелетие назад:
ПЕСНЯ О ГОРДОМ ДУХЕ
Зачем для пестованья тела душе томиться в прозябанье?
Прозрение — моя дорога! Пророчество — мое призванье!
Позор для творческого духа стоять у плоти на часах,
Платить не стану я Элладе хотя бы и крупицы дани.
Во имя песен соловьиных навек прикован я к стиху...
Во имя истины нетленной я в заколдованном зиндане.
Проходит лет моих теченье среди царей, среди вельмож;
Я изучал их и за чашей и в государственном собранье.
Из всех желаний сохранил я желанье быть для них примером,
А из наград осталось только одно лишь разочарованье.
 Здесь десять строк. Газелла бывает и в шесть, и в восемнадцать. Принцип ее таков: первые две строки срифмованы, затем все нечетные остаются свободными, а все четные рифмуются с первыми двумя. Концовка обязана, конечно, рифмоваться, ибо газелла непременно должна иметь четное количество строк.
Здесь десять строк. Газелла бывает и в шесть, и в восемнадцать. Принцип ее таков: первые две строки срифмованы, затем все нечетные остаются свободными, а все четные рифмуются с первыми двумя. Концовка обязана, конечно, рифмоваться, ибо газелла непременно должна иметь четное количество строк.
 Есть и другая форма газеллы, более сложная:
Есть и другая форма газеллы, более сложная:
Лицо сокрыла в облаках, себя туманом сделала,
Меня, влюбленного в тебя, ты бездыханным сделала,
О, как я стражду по ночам в безмолвном одиночестве...
Ты с кем опять ведешь игру? Кого ты пьяным сделала?
Я все объятия твои переживаю заново,
Ты сердце алое мое себе тюльпаном сделала.
Ведь пьяные твои глаза меня отравой ранили
Как будто это не красой — травой дурманом сделала.
Вина картавая струя, как слезы сквозь рыдания, —
Вот что ты, милая моя, со мной, смутьяном, сделала.
Лети, лети же, ветерок, неси мне исцеление:
Ее дыхание одно меня бы ханом сделало.
Нет, даже враг не совершит того с душой Хафизовой,
Что ятаганами бровей, клянусь Кораном, сделала.
(Хафиз)
 Своеобразие этой газеллы в том, что рифмуются в первой и всех четных строках только предпоследние слова, последние же остаются недвижными (редиф).
Своеобразие этой газеллы в том, что рифмуются в первой и всех четных строках только предпоследние слова, последние же остаются недвижными (редиф).
 Триолеты и газеллы, баллады и канцоны, пришедшие к нам из Италии, Франции, Персии, время от времени пробовались на зуб нашими поэтами, но в русском стихе не привились: переводы с иностранного всегда были в этих случаях сильнее русских экспериментов. Формы эти остались для нас музейными редкостями. Нет ни одного случая, когда бы стихотворение в этой манере запало в душу нашему читателю и осталось в русской поэзии как драгоценность. Совершенно иная судьба у сонета.
Триолеты и газеллы, баллады и канцоны, пришедшие к нам из Италии, Франции, Персии, время от времени пробовались на зуб нашими поэтами, но в русском стихе не привились: переводы с иностранного всегда были в этих случаях сильнее русских экспериментов. Формы эти остались для нас музейными редкостями. Нет ни одного случая, когда бы стихотворение в этой манере запало в душу нашему читателю и осталось в русской поэзии как драгоценность. Совершенно иная судьба у сонета.
 Е) Сонет. Сонет — это конструкция в четырнадцать строк. Классическая форма его такова: два катрена, рифмованные между собой один крестом, другой пояском, и две терцины, связанные произвольно. Появление в России этого итальянского изобретения было встречено, очевидно, враждебно, так как Пушкин первый же свой сонет посвящает защите именно сонетной формы. Любопытно, что эпиграфом к своему сонету он берет фразу Вордсворта: «Не презирай сонета, критик».
Е) Сонет. Сонет — это конструкция в четырнадцать строк. Классическая форма его такова: два катрена, рифмованные между собой один крестом, другой пояском, и две терцины, связанные произвольно. Появление в России этого итальянского изобретения было встречено, очевидно, враждебно, так как Пушкин первый же свой сонет посвящает защите именно сонетной формы. Любопытно, что эпиграфом к своему сонету он берет фразу Вордсворта: «Не презирай сонета, критик».
Суровый Дант не презирал сонета;
В нем жар любви Петрарка изливал;
Игру его любил творец Макбета;
Им скорбну мысль Камоэнс облекал.
И в наши дни пленяет он поэта:
Вордсворт его орудием избрал,
Когда вдали от суетного света
Природы он рисует идеал.
Под сенью гор Тавриды отдаленной
Певец Литвы в размер его стесненный
Свои мечты мгновенно заключал.
У нас его еще не знали девы,
Как для него уж Дельвиг забывал
Гекзаметра священные напевы.
 Однако в этом стихотворении Пушкин еще не овладел в совершенстве ни внешней, ни тем более внутренней формой сонета, которая очень сложна: во-первых, один из катренов лишен «пояска», что в сонете считается необходимым, так как придает ему изящество; во-вторых, из четырех рифм на «ал» — три глагольные, вдобавок в терцинах снова появляются две глагольные рифмы и тоже на «ал», а это уже вне традиции сонета. Что касается внутренней формы, то она у классического сонета глубоко продумана. Поль Годэн, например, называл сонет симфонией в стихах: в первом катрене звучит аллегро, во втором — анданте, первая терцина представляет собой скерцо, а вторая — финал, приводящий к заключительному аккорду последней строки, которая должна заключать в себе смысловое зерно всего сонета, его магистральную идею. С этим сравнением можно поспорить хотя бы уж потому, что симфония — это сочетание звучаний разных инструментов, чего в сонете, конечно, нет, поэтому правильней было бы сравнить его с сонатой; да и такое категорическое членение 14 строк на бодрый катрен № 1, грустный № 2, фривольную терцину № 1 и финальную № 2 также не очень убедительно: мы знаем великолепные сонеты великих мастеров, которые не поддаются этим кондициям. И все же внутренняя форма сонета признана всеми: говоря широко, в первой части заложена мысль и ее развитее, во второй возникает новая мысль, развивающаяся в новом направлении, чтобы в заключительных строках сонета прийти к какому-то единству. Таким образом, в сонете заключена как бы гегелевская триада: тезке, антитезис и синтез. Следовательно, сонет — форма философическая. Это внутреннее движение темы в пушкинском сонете отсутствует, он посвящен перечислению литературных авторитетов, любивших эту форму стиха, и прославлению своего друга Дельвига, который променял на него даже «священный» гекзаметр. Однако, с легкой руки Пушкина, сонет все чаще н чаще стал входить в круг внимания поэтов, прочно утвердился в русской литературе, а в XX веке у Бальмонта вызвал даже целую книгу — «Сонеты солнца, меда и луны», причем автор посвятил самой форме сонета восторженные строки, носящие чуть ли не заклинательный характер:
Однако в этом стихотворении Пушкин еще не овладел в совершенстве ни внешней, ни тем более внутренней формой сонета, которая очень сложна: во-первых, один из катренов лишен «пояска», что в сонете считается необходимым, так как придает ему изящество; во-вторых, из четырех рифм на «ал» — три глагольные, вдобавок в терцинах снова появляются две глагольные рифмы и тоже на «ал», а это уже вне традиции сонета. Что касается внутренней формы, то она у классического сонета глубоко продумана. Поль Годэн, например, называл сонет симфонией в стихах: в первом катрене звучит аллегро, во втором — анданте, первая терцина представляет собой скерцо, а вторая — финал, приводящий к заключительному аккорду последней строки, которая должна заключать в себе смысловое зерно всего сонета, его магистральную идею. С этим сравнением можно поспорить хотя бы уж потому, что симфония — это сочетание звучаний разных инструментов, чего в сонете, конечно, нет, поэтому правильней было бы сравнить его с сонатой; да и такое категорическое членение 14 строк на бодрый катрен № 1, грустный № 2, фривольную терцину № 1 и финальную № 2 также не очень убедительно: мы знаем великолепные сонеты великих мастеров, которые не поддаются этим кондициям. И все же внутренняя форма сонета признана всеми: говоря широко, в первой части заложена мысль и ее развитее, во второй возникает новая мысль, развивающаяся в новом направлении, чтобы в заключительных строках сонета прийти к какому-то единству. Таким образом, в сонете заключена как бы гегелевская триада: тезке, антитезис и синтез. Следовательно, сонет — форма философическая. Это внутреннее движение темы в пушкинском сонете отсутствует, он посвящен перечислению литературных авторитетов, любивших эту форму стиха, и прославлению своего друга Дельвига, который променял на него даже «священный» гекзаметр. Однако, с легкой руки Пушкина, сонет все чаще н чаще стал входить в круг внимания поэтов, прочно утвердился в русской литературе, а в XX веке у Бальмонта вызвал даже целую книгу — «Сонеты солнца, меда и луны», причем автор посвятил самой форме сонета восторженные строки, носящие чуть ли не заклинательный характер:
Четыре и четыре, три и три.
Закон. Вернее, признаки закона.
Взнесенье волей огненного трона,
Начало и конец дневной зари.
(«Закон сонета»)
 И в другом стихотворении о сонете:
И в другом стихотворении о сонете:
Четырнадцать есть лунное свеченье,
Четыре — это ветры всех миров,
И троичность — звено рожденья снов.
(«Сонет сонету»)
 Сонет, повторяю, глубоко внедрился в стихию русского стиха. В этой форме были созданы шедевры, которые навсегда останутся в истории нашей поэзии не только как прекрасные стихи, но и как скрижали нравственности, как опыт воспитания человеческого сердца.
Сонет, повторяю, глубоко внедрился в стихию русского стиха. В этой форме были созданы шедевры, которые навсегда останутся в истории нашей поэзии не только как прекрасные стихи, но и как скрижали нравственности, как опыт воспитания человеческого сердца.
 Вспомним гениальный сонет Пушкина:
Вспомним гениальный сонет Пушкина:
Поэт! Не дорожи любовию народной.
Восторженных похвал пройдет минутный шум;
Услышишь суд глупца и смех толпы холодной,
Но ты останься тверд, спокоен и угрюм.
Ты царь: живи один. Дорогою свободной
Иди, куда влечет тебя свободный ум,
Усовершенствуя плоды любимых дум,
Не требуя наград за подвиг благородный.
Они в самом тебе. Ты сам свой высший суд;
Всех строже оценить умеешь ты свой труд.
Ты им доволен ли, взыскательный художник?
Доволен? Так пускай толпа его бранит
И плюет на алтарь, где твой огонь горит,
И в детской резвости колеблет твой треножник.
 Этот сонет вошел в сознание русской общественности как программа бескорыстного служения искусству. Чуть ли не каждая его строка цитировалась в тех или иных исторических условиях. Эти строки чеканили духовный облик поэта, они шли наперекор литературной политике «кнута и пряника», они напоминали поэту о величии его титула, учили не бояться бесславия н находить утоление в преданности своему призванию до конца. И если лучшие поэты России выработали в себе редкий по благородству и стойкости характер, если они никогда не гнались за дешевой популярностью, то в этом немалая заслуга замечательного пушкинского стихотворения. Однако не все поэты правильно прочитали этот сонет — вспомним Бунина:
Этот сонет вошел в сознание русской общественности как программа бескорыстного служения искусству. Чуть ли не каждая его строка цитировалась в тех или иных исторических условиях. Эти строки чеканили духовный облик поэта, они шли наперекор литературной политике «кнута и пряника», они напоминали поэту о величии его титула, учили не бояться бесславия н находить утоление в преданности своему призванию до конца. И если лучшие поэты России выработали в себе редкий по благородству и стойкости характер, если они никогда не гнались за дешевой популярностью, то в этом немалая заслуга замечательного пушкинского стихотворения. Однако не все поэты правильно прочитали этот сонет — вспомним Бунина:
* ... *
На высоте, на снеговой вершине,
Я вырезал стальным клинком сонет.
Проходят дни. Быть может, и доныне
Снега хранят мой одинокий след.
На высоте, где небеса так сини,
Где радостно сияет зимний свет,
Глядело только солнце, как стилет
Чертил мой стих на изумрудной льдине.
И весело мне думать, что поэт
Меня поймет. Пусть никогда в долине
Его толпы не радует привет!
На высоте, где небеса так сини,
Я вырезал в полдневный час сонет
Лишь для того, кто на вершине.
 Казалось бы, полное повторение мыслей Пушкина — а в то же время какая разница! Слова Пушкина продиктованы жгучей болью! В его призыве быть угрюмым, в его завете остаться одиноким — глубокая скорбь человека, переросшего свое время. Он принес людям свои любимые думы, и современники сначала приняли их, очарованные их чистотой н свежестью, но потом, когда разобрались глубже и поняли, что думы эти заводят слишком далеко, отпрянули от пророка и стали осквернять то, что было для пего святыней. Этих-то обывателей Пушкин и называет «толпой». Не то Иван Бунин. Аристократически брезгливо, с дерзкой надменностью отказывается он от привета толпы, которая обитает в долине. Кто эта толпа? В чем вина этих людей перед Буниным? Только в том, что они не поэты? Что живут в долине? Они не плевали на его алтарь, они не сотрясали его треножника, — напротив, они могли окружить его вниманием и почетом. Но поэт горд, как царь. Он предпочитает жить один на вершине.
Казалось бы, полное повторение мыслей Пушкина — а в то же время какая разница! Слова Пушкина продиктованы жгучей болью! В его призыве быть угрюмым, в его завете остаться одиноким — глубокая скорбь человека, переросшего свое время. Он принес людям свои любимые думы, и современники сначала приняли их, очарованные их чистотой н свежестью, но потом, когда разобрались глубже и поняли, что думы эти заводят слишком далеко, отпрянули от пророка и стали осквернять то, что было для пего святыней. Этих-то обывателей Пушкин и называет «толпой». Не то Иван Бунин. Аристократически брезгливо, с дерзкой надменностью отказывается он от привета толпы, которая обитает в долине. Кто эта толпа? В чем вина этих людей перед Буниным? Только в том, что они не поэты? Что живут в долине? Они не плевали на его алтарь, они не сотрясали его треножника, — напротив, они могли окружить его вниманием и почетом. Но поэт горд, как царь. Он предпочитает жить один на вершине.
 Сонет Бунина построен превосходно. Стянутый весь в две рифмы с кольцевой концовкой («вершине — сонет — доныне — след — сини — свет — стилет — льдине — поэт — долине — привет — сини — сонет — вершине»), он ослепляет блеском своего стиля, алмазной четкостью и музыкальностью отточенных поэтических формул. И все же он не стал и не может стать великим Произведением искусства: для этого бунинскому сонету недостает человечности.
Сонет Бунина построен превосходно. Стянутый весь в две рифмы с кольцевой концовкой («вершине — сонет — доныне — след — сини — свет — стилет — льдине — поэт — долине — привет — сини — сонет — вершине»), он ослепляет блеском своего стиля, алмазной четкостью и музыкальностью отточенных поэтических формул. И все же он не стал и не может стать великим Произведением искусства: для этого бунинскому сонету недостает человечности.
 Под пером великого Пушкина сонету довелось сослужить еще одну службу российскому стиху: мне кажется убедительным мнение профессора Л. П. Гроссмана о том, что онегинская строфа создана Пушкиным путем переработки сонета. В самом деле — приглядимся внимательно:
Под пером великого Пушкина сонету довелось сослужить еще одну службу российскому стиху: мне кажется убедительным мнение профессора Л. П. Гроссмана о том, что онегинская строфа создана Пушкиным путем переработки сонета. В самом деле — приглядимся внимательно:
Театр уж полон; ложи блещут;
Партер и кресла, все кипит;
В райке нетерпеливо плещут,
И, взвившись, занавес шумит.
Блистательна, полувоздушна,
Смычку волшебному послушна,
Толпою нимф окружена,
Стоит Истомина; она,
Одной ногой касаясь пола,
Другою медленно кружит,
И вдруг прыжок, и вдруг летит,
Летит, как пух из уст Эола;
То стан совьет, то разовьет
И быстрой ножкой ножку бьет.
 В этой строфе четырнадцать строк, как и в сонете. Катрены — один перекрестный, другой опоясывающий, а шесть строк из трех парных вполне заменяют две терцины. Секрет, однако, в том, что все эти сонетные части располагаются не в том строгом порядке, как в сонете, а в несколько ином, изобретенном самим Пушкиным, и в этом своеобразии представляют собой ту великолепную, единственную в своем роде строфу, которая получила название «онегинской».
В этой строфе четырнадцать строк, как и в сонете. Катрены — один перекрестный, другой опоясывающий, а шесть строк из трех парных вполне заменяют две терцины. Секрет, однако, в том, что все эти сонетные части располагаются не в том строгом порядке, как в сонете, а в несколько ином, изобретенном самим Пушкиным, и в этом своеобразии представляют собой ту великолепную, единственную в своем роде строфу, которая получила название «онегинской».
 Строфа эта стала применяться в дальнейшем целым рядом поэтов. Лермонтов в «Казначейше» прямо говорит: «Пишу „Онегина“ размером». Он мог бы, впрочем, этого не говорить — онегинская строфа видна всякому невооруженным глазом.
Строфа эта стала применяться в дальнейшем целым рядом поэтов. Лермонтов в «Казначейше» прямо говорит: «Пишу „Онегина“ размером». Он мог бы, впрочем, этого не говорить — онегинская строфа видна всякому невооруженным глазом.
 Над сонетом производили всякие эксперименты. Появлялись сонеты «обращенные», «хромые», «хвостатые» и прочее, и прочее. У французского поэта Рессенье был такой, — каждая строка которого состояла всего-навсего из одного слова в один слог:
Над сонетом производили всякие эксперименты. Появлялись сонеты «обращенные», «хромые», «хвостатые» и прочее, и прочее. У французского поэта Рессенье был такой, — каждая строка которого состояла всего-навсего из одного слова в один слог:
Fort
Bell
Elle
Dort
Sort
Frele!
Quelle
Mort...
Rose
Close
La
Brise
La
Prise
(«Прекрасная, она спит... Судьба ее хрупка. Какая смерть! отцветшая роза. Ветерок ее развеял».)
 В этом прекрасном стихотворении первый катрен написан, однако, неверно: опоясывающие рифмы — особенность катрена № 2. Русский экспериментальный сонет того же типа избежал этого недостатка:
В этом прекрасном стихотворении первый катрен написан, однако, неверно: опоясывающие рифмы — особенность катрена № 2. Русский экспериментальный сонет того же типа избежал этого недостатка:
Дол
Сед.
Шел
Дед.
След
Вел —
Брел
Вслед.
Вдруг
Лук
Ввысь:
Трах!
Рысь
В прах.
 Но все это выветрилось, ушло в копилку курьезов, а сонет остался на века.
Но все это выветрилось, ушло в копилку курьезов, а сонет остался на века.
 Сложнейшей конструкцией лирических стихотворений является венок сонетов. Перед нами сонет Бальмонта:
Сложнейшей конструкцией лирических стихотворений является венок сонетов. Перед нами сонет Бальмонта:
Он и Она — не два ли разночтенья
Красивого сказания времен?
Два звука, чтоб создать единый звон,
Два атома в законе тяготенья.
Весной, в великий праздник всесожженья,
Одною хотыо каждый дух взметен.
Друг другом зажжены она и он.
Иль только лишь хотением хотенья?
В весеннее раскрытое окно
Со всех сторон доходят к сердцу звуки,
В них сладость упоительнейшей муки,
Сто тысяч дальних звезд в них зажжено.
И молим мы, ломая розно руки,
Того, что есть по существу одно.
 С точки зрения формы это законченная сонетная конструкция, но для венка сонетов это всего лишь строфа, ибо венок — это лирическая поэма, построенная из пятнадцати сонетов. Однако построение это строго продуманно по своей архитектуре. Сонет, который я процитировал выше, является лишь первой строфой поэмы. Следующая строфа, будучи также сонетом, должна, однако, начинаться той строкой, которой закончилась предыдущая:
С точки зрения формы это законченная сонетная конструкция, но для венка сонетов это всего лишь строфа, ибо венок — это лирическая поэма, построенная из пятнадцати сонетов. Однако построение это строго продуманно по своей архитектуре. Сонет, который я процитировал выше, является лишь первой строфой поэмы. Следующая строфа, будучи также сонетом, должна, однако, начинаться той строкой, которой закончилась предыдущая:
Того, что есть но существу одно,
Хотя бы в ликах нам являлось разных,
Но в скрепах утвержденного алмазных,
Желают все. Кем брошено зерно?
Не знаем. И не все ли нам равно?
Мы быть должны в пленяющих соблазнах.
Средь строгих слов да лепетов несвязных,
В веках тоски шуми, веретено.
Седых времен цветущее сказанье
Как можем не хотеть и не любить?
Опять скрутив, сплетем живую нить.
И вновь порвав для счастья разверзанья.
Направим дух туда, где все темно:
Нам таинство разоблачает дно.
 Третья строфа-сонет, как я уже говорил выше, будет начинаться той же строкой, которой закончилась вторая:
Третья строфа-сонет, как я уже говорил выше, будет начинаться той же строкой, которой закончилась вторая:
Нам таинство разоблачает дно...
 И так далее, до сонета № 14, который заканчивается так:
И так далее, до сонета № 14, который заканчивается так:
Нет я, нет ты, одно самозабвенье.
Она Он — не два ли разночтенья
 Если помните, читатель, последняя строка этого сонета не что иное, как... первая строка всей поэмы. Итак, венок завершился: конец сонета № 14 вернул нас к началу сонета № 1. Но на этом венок не кончается, за ним следует кода в виде пятнадцатого, так называемого «магистрального», сонета, который представляет собой смысловой корень всей поэмы. По форме же он состоит из первых строк всех четырнадцати сонетов. Попробуйте прочитать венок исключительно по начальным строкам его номеров, и вот что получается:
Если помните, читатель, последняя строка этого сонета не что иное, как... первая строка всей поэмы. Итак, венок завершился: конец сонета № 14 вернул нас к началу сонета № 1. Но на этом венок не кончается, за ним следует кода в виде пятнадцатого, так называемого «магистрального», сонета, который представляет собой смысловой корень всей поэмы. По форме же он состоит из первых строк всех четырнадцати сонетов. Попробуйте прочитать венок исключительно по начальным строкам его номеров, и вот что получается:
(Магистраль)
Он и Она — но два ли разночтенья (№ 1)
Того, что есть но существу одно? (№ 2)
Нам таинство разоблачает дно (№ 3)
Восторга, созерцанья и мученья. (№ 4)
Все в мире знает первое влеченье (№ 5)
К тому, что здесь закончить не дано. (№ 6)
К звену идет ведущее звено, (№ 7)
Как буква к букве в слово заключенья. (№ 8)
Но в чем же завершающий конец (№ 9)
Стремленья двух к объятью? Не в печали. (№ 10)
Не в том, чтоб близь опять вернулась в даль. (№ 11)
Пасхальная созвездность всех сердец (№ 12)
Обещана, занесена в скрижали. (№13)
Любя любовь, творение-Творец. {№ 14)
 Таков венок сонетов, форма, как я уже говорил, лирическая. Но в наши дни ей придан был и эпический характер. Появился сюжет, характеры, лирические отступления, описания природы и так далее, а все это потребовало новаторства и в самой структуре сонета, — короче говоря, сонет был уже в полном смысле слова низведен до значения строфы. Такой венок носит название короны сонетов и разрешает себе самые широкие вольности, не выходя, однако, за пределы архитектурного каркаса венка.
Таков венок сонетов, форма, как я уже говорил, лирическая. Но в наши дни ей придан был и эпический характер. Появился сюжет, характеры, лирические отступления, описания природы и так далее, а все это потребовало новаторства и в самой структуре сонета, — короче говоря, сонет был уже в полном смысле слова низведен до значения строфы. Такой венок носит название короны сонетов и разрешает себе самые широкие вольности, не выходя, однако, за пределы архитектурного каркаса венка.
 В моей поэме «Рысь», состоящей из двух частей, каждая из которых представляет собой корону сонетов, я по ходу фабулы даю все, что эпосу необходимо: здесь и пейзаж, и портрет, и философическое отступление. Вот, например, описание весны:
В моей поэме «Рысь», состоящей из двух частей, каждая из которых представляет собой корону сонетов, я по ходу фабулы даю все, что эпосу необходимо: здесь и пейзаж, и портрет, и философическое отступление. Вот, например, описание весны:
Тайга чернела. Закурились ели,
Отряхивая снежные меха.
Дымились кедры. Капали капели.
Ручьи залепетали, закипели.
Сквозь шорохи да хвои вороха
В пару соснища дуплами глазели.
И лиственниц разбуженное зелье
Туманами стекало в берега.
Опять случилось чудо в белом мире!
Зеленый клык над тундрою повис
Языческим пророчеством о пире.
Земля жирела. Запахи неслись.
А над сузёмом, гриву растопыря,
Заржала громом мчащаяся высь
 Вот рисунок рыси:
Вот рисунок рыси:
Жила-была в тайге рудая рысь.
Цветастый мех лоснился в перелаке.
Когда она лакать спускалась вниз,
В воде мерцали голубые баки.
И на ушах распыженная кисть,
И пасть курносая в клыках для драки.
 Вот рассказ о первой любви:
Вот рассказ о первой любви:
И вдруг напротив отразил ручей
Раскосые по-азиатски щели
Зеленовато-ледяных очей.
Она отпрянула. Кто это? Чей?
Багряный. С хищной грациею в теле.
Весь обаянье. Наяву? Во сне ли?
В ней кровь теперь отравы горячей...
Глаза ее лукаво зеленели.
Ее глаза лукаво зеленели.
Она пошла и оглянулась. Он,
Как зачарованный, глядит на прелесть.
Ее мехов. Он будто видит сон.
Тогда она по-птичьему, сквозь стон,
Журчащие проворковала трели.
Она... Она звала. Куда-то в шелест.
И началась игра! Сраженье! Гон!
Так вот оно, томление весенье,
Та боль и нега, мутное веселье,
Такое, что кружится голова,
Что сердце не расплещется едва!
Любовь — теперь он знает — такова:
Пушна — пушиста. В белом ожерелье.
 Перевод венка из лирики в эпос создал, как мы видим, нечто совершенно особое — и это объясняется разницей в характере жанров. Для того чтобы открыть перед эпическими картинами необходимый им простор, автору пришлось пересмотреть каноническую форму сонета, и вот появились сонеты с парными строчками в катренах, сонеты с терцинами внутри и сонеты с терцинами снаружи, так что одна терцина представляет собой треугольник острием вверх, а другая острием вниз, причем рифмуется первая строчка с четырнадцатой, но благодаря повтору конца одного сонета в начале другого этот прыжок не производит впечатления утраты созвучия и т. д. Что касается рифмы, то «корона» разрешает сонетам ассонансы.
Перевод венка из лирики в эпос создал, как мы видим, нечто совершенно особое — и это объясняется разницей в характере жанров. Для того чтобы открыть перед эпическими картинами необходимый им простор, автору пришлось пересмотреть каноническую форму сонета, и вот появились сонеты с парными строчками в катренах, сонеты с терцинами внутри и сонеты с терцинами снаружи, так что одна терцина представляет собой треугольник острием вверх, а другая острием вниз, причем рифмуется первая строчка с четырнадцатой, но благодаря повтору конца одного сонета в начале другого этот прыжок не производит впечатления утраты созвучия и т. д. Что касается рифмы, то «корона» разрешает сонетам ассонансы.
 Чем же вызвана замена лирического венка эпической короной? Венок сонетов — изобретательно задуманная форма. Он требует от поэта незаурядного напряжения и как бы иллюстрирует мысль Делакруа: «Самое важное — избегать этой проклятой легкости кисти. Старайся сделать материал неподатливым для обработки, как мрамор: получится нечто совершенно новое...»
Чем же вызвана замена лирического венка эпической короной? Венок сонетов — изобретательно задуманная форма. Он требует от поэта незаурядного напряжения и как бы иллюстрирует мысль Делакруа: «Самое важное — избегать этой проклятой легкости кисти. Старайся сделать материал неподатливым для обработки, как мрамор: получится нечто совершенно новое...»
 Однако непокорность материала не должна быть генеральным заданном: ее порождает большая и сложная цель. Между тем стиховая сущность лирического переживания — сжатость и яркость. Как правило, переживание, заключенное в венке сонетов, вполне разрешается магистралью, поэтому сам по себе венок — это почти всегда размазывание того экстракта идеи, который гнездится в пятнадцатом сонете. Другое дело — эпос. Тут сонет № 15 сосредоточивает в себе афористический вывод из целой картины жизни, но для того, чтобы изобразить эту картину, магистрального сонета совершенно недостаточно, а необходимы но крайней мере все четырнадцать. Поэтому венок по своему содержанию совершенно не оправдывает тех усилий, которые затрачиваются на его конструкцию, тогда как для короны они вполне естественны.
Однако непокорность материала не должна быть генеральным заданном: ее порождает большая и сложная цель. Между тем стиховая сущность лирического переживания — сжатость и яркость. Как правило, переживание, заключенное в венке сонетов, вполне разрешается магистралью, поэтому сам по себе венок — это почти всегда размазывание того экстракта идеи, который гнездится в пятнадцатом сонете. Другое дело — эпос. Тут сонет № 15 сосредоточивает в себе афористический вывод из целой картины жизни, но для того, чтобы изобразить эту картину, магистрального сонета совершенно недостаточно, а необходимы но крайней мере все четырнадцать. Поэтому венок по своему содержанию совершенно не оправдывает тех усилий, которые затрачиваются на его конструкцию, тогда как для короны они вполне естественны.
 В 1919 году я задумал создать корону корон сонетов — «Георгий Гай», где магистралью была бы целая корона. Такая поэма должна была бы иметь 3164 строки и обладать женскими рифмами для катренов в количестве 196, мужскими — 196, женскими для терцин — 154, мужскими для терцин — 154. Я написал было несколько первых сонетов, но вовремя одумался. Это было для меня счастьем: к концу работы я, несомненно, сошел бы с ума.
В 1919 году я задумал создать корону корон сонетов — «Георгий Гай», где магистралью была бы целая корона. Такая поэма должна была бы иметь 3164 строки и обладать женскими рифмами для катренов в количестве 196, мужскими — 196, женскими для терцин — 154, мужскими для терцин — 154. Я написал было несколько первых сонетов, но вовремя одумался. Это было для меня счастьем: к концу работы я, несомненно, сошел бы с ума.
 Поэтическая речь в основе своей речь пластическая. Мысль, выраженная словами, — это форма, далеко не исчерпывающая той задачи, какая стоит перед стихотворной фразой. Строка в поэзии — строка звучащая, хотя бы ее читали про себя. Пробегая по строчкам одними глазами, мы, сами того не замечая, поднимаем диафрагму для более сильного дыхания и слегка напрягаем молчащие голосовые связки. Во всяком случае, наш слух при абсолютном безмолвии слышит стихи, произносимые молча.
Поэтическая речь в основе своей речь пластическая. Мысль, выраженная словами, — это форма, далеко не исчерпывающая той задачи, какая стоит перед стихотворной фразой. Строка в поэзии — строка звучащая, хотя бы ее читали про себя. Пробегая по строчкам одними глазами, мы, сами того не замечая, поднимаем диафрагму для более сильного дыхания и слегка напрягаем молчащие голосовые связки. Во всяком случае, наш слух при абсолютном безмолвии слышит стихи, произносимые молча.
 Пластика в поэзии заключается прежде всего в том, чтобы согласные звуки не набегали друг на друга, образуя тромб, так же как друг с другом не сливались гласные. В первом случае получается какофония:
Пластика в поэзии заключается прежде всего в том, чтобы согласные звуки не набегали друг на друга, образуя тромб, так же как друг с другом не сливались гласные. В первом случае получается какофония:
Ну, а ты так, как и он,
Быстр, выспр, птиц царь,
Порх вверх, на Геликон!
 Во втором — зияние:
Во втором — зияние:
И у Ии и у ее Иоанна
 Однако эти примеры нехарактерны для поэтической практики: у каждого стихотворца достаточно нормальный слух, чтобы избегать подобного рода казусов. Я привел их для того, чтобы показать болезнь во всем ее великолепии. Как говорил Уайльд: «Когда истины находятся на туго натянутом канате, тогда мы вправе о них судить».
Однако эти примеры нехарактерны для поэтической практики: у каждого стихотворца достаточно нормальный слух, чтобы избегать подобного рода казусов. Я привел их для того, чтобы показать болезнь во всем ее великолепии. Как говорил Уайльд: «Когда истины находятся на туго натянутом канате, тогда мы вправе о них судить».
 Возьмем знаменитые строки Пушкина из стихотворения «К Керн»:
Возьмем знаменитые строки Пушкина из стихотворения «К Керн»:
Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты.
 Эту фразу можно было бы изложить иначе:
Эту фразу можно было бы изложить иначе:
Мгновенье чудное я помню,
Явилась ты передо мной.
 Как видите, четырехстопный ямб не пострадал, все слова остались теми же, мысль та же, но... что-то утрачено. Что же именно? Утрачена пластика. У Пушкина строки сложены абсолютно естественно: здесь невозможно переставить ни звука. Во втором же примере произошло небольшое насилие над грамматикой: глагол в первой отроке отошел к концу, а глагол и местоимение во второй строке, напротив, вышли вперед. Это придает Фразе некоторую искусственность, вполне допустимую в поэзии, но нежелательную. Кроме того, в первой строке получилось совсем маленькое зияние «оея». Итак, «небольшие», «некоторые», «совсем маленькие» измененьица, а строки перестали быть пушкинскими. Из этого сопоставления ясно, какое огромное значение имеет пластика: она придает стиху обаяние.
Как видите, четырехстопный ямб не пострадал, все слова остались теми же, мысль та же, но... что-то утрачено. Что же именно? Утрачена пластика. У Пушкина строки сложены абсолютно естественно: здесь невозможно переставить ни звука. Во втором же примере произошло небольшое насилие над грамматикой: глагол в первой отроке отошел к концу, а глагол и местоимение во второй строке, напротив, вышли вперед. Это придает Фразе некоторую искусственность, вполне допустимую в поэзии, но нежелательную. Кроме того, в первой строке получилось совсем маленькое зияние «оея». Итак, «небольшие», «некоторые», «совсем маленькие» измененьица, а строки перестали быть пушкинскими. Из этого сопоставления ясно, какое огромное значение имеет пластика: она придает стиху обаяние.
 Пластичность является основным требованием ко всякому поэтическому произведению. Но она существует лишь как общее правило. В отдельных случаях, где необходимо передать грубость, грузность, тяжесть, поэт сознательно идет па ломку пластики. Тот же Пушкин в описании полтавского боя нарушает пластическое течение фразы:
Пластичность является основным требованием ко всякому поэтическому произведению. Но она существует лишь как общее правило. В отдельных случаях, где необходимо передать грубость, грузность, тяжесть, поэт сознательно идет па ломку пластики. Тот же Пушкин в описании полтавского боя нарушает пластическое течение фразы:
Швед, русский — колет, рубит, режет
Бой барабанный, клики, скрежет.
Гром пушек, топот, ржанье, стоп...
 Здесь и спондеи, и хориямб, и раздражающее сочетание звуков «рж» («режет», «скрежет», «ржанье»). Как это все непохоже на стансы к А. Керн! А ведь это те же ямбы.
Здесь и спондеи, и хориямб, и раздражающее сочетание звуков «рж» («режет», «скрежет», «ржанье»). Как это все непохоже на стансы к А. Керн! А ведь это те же ямбы.
 Напротив, когда Лермонтову понадобилось изобразить полет ангела, он стремился удалить из своего стихотворения тяжкие звуки, в особенности «р», для придания стиху невесомости:
Напротив, когда Лермонтову понадобилось изобразить полет ангела, он стремился удалить из своего стихотворения тяжкие звуки, в особенности «р», для придания стиху невесомости:
По небу полуночи ангел летел
И тихую песню он пел,
И месяц и звезды и тучи толпой
Внимали той песне святой.
 Но мысль требовала такого развития, которое никак не могло обойтись без этой буквы. В этом случае автор
Но мысль требовала такого развития, которое никак не могло обойтись без этой буквы. В этом случае автор
 Подбирал для звука «р» такие слова, смысл которых носил бы по крайнем мере неземной или хотя бы возвышенный х а р а к т е р:
Подбирал для звука «р» такие слова, смысл которых носил бы по крайнем мере неземной или хотя бы возвышенный х а р а к т е р:
Он пел о блаженстве безгрешных духов
Под кущами райских садов,
О боге великом он пел, и хвала
Его непритворна была.
 «Безгрешный», «райский», «непритворный» содержание этих понятий смягчает рокот этой громовой буквы и содействует невесомости ангельского полета.
«Безгрешный», «райский», «непритворный» содержание этих понятий смягчает рокот этой громовой буквы и содействует невесомости ангельского полета.
Он душу младую в объятиях нес
Для мира печали и слез;
И звук его песни в душе молодой
Остался — без слов, но живой.
 В первом варианте это стихотворение заканчивалось так:
В первом варианте это стихотворение заканчивалось так:
Душа поселилась в твореньи земном.
Но чужд был ей мир. Об одном
Она все мечтала: о звуках святых,
Не помня значения их.
 Но затем Лермонтов отказался от этой концовки и заменил ее другой:
Но затем Лермонтов отказался от этой концовки и заменил ее другой:
И долго на свете томилась она,
Желанием чудным полна,
И звуков небес заменить помогли
Ей скучные песни земли.
 Второй катрен неизмеримо лучше первого. Не говоря уже о том, что поэт удалил два «р» («творение» и мир), он избавился от переноса, который утяжелял строфу:
Второй катрен неизмеримо лучше первого. Не говоря уже о том, что поэт удалил два «р» («творение» и мир), он избавился от переноса, который утяжелял строфу:
Но чужд был ей мир. Об одном...
 Эта точка посреди строки заставляет читателя споткнуться и, конечно, нарушает ощущение плавности по лета.
Эта точка посреди строки заставляет читателя споткнуться и, конечно, нарушает ощущение плавности по лета.
 В стихотворении «Ангел» с огромной силой и глубиной выражена сущность платоновской философии: но Платону, знание не что иное, как воспоминания бессмертной души человеческой о том мире идей, в котором она жила до своего воплощения в смертную оболочку тела. Эта мысль очень точно была изложена Лермонтовым в первом варианте финала, на поэта не удовлетворила голая точность, ибо, повторяю, мысль, выраженная словами, хотя бы и точными, — это еще не поэтическая мысль.
В стихотворении «Ангел» с огромной силой и глубиной выражена сущность платоновской философии: но Платону, знание не что иное, как воспоминания бессмертной души человеческой о том мире идей, в котором она жила до своего воплощения в смертную оболочку тела. Эта мысль очень точно была изложена Лермонтовым в первом варианте финала, на поэта не удовлетворила голая точность, ибо, повторяю, мысль, выраженная словами, хотя бы и точными, — это еще не поэтическая мысль.
 Существуют экспериментальные стихи, в которых игра звуков носит самодовлеющий характер. Вот стихотворение А. Басаргиной:
Существуют экспериментальные стихи, в которых игра звуков носит самодовлеющий характер. Вот стихотворение А. Басаргиной:
Любого б Люба не полюбила,
Не любо Любе влюбляться вновь:
Любовь Петровна лишь раз любила,
и разлюбила.
Любовь, любовь.
 Или другой пример того же типа:
Или другой пример того же типа:
Шел черт. Видит черта.
Чертыхнулся черт на черта:
— Тьфу ты, черт! — сказал черт. —
На кой черт черту черт?
— Черт те что! — сказал черт черту,
И послал он черта к черту.
 Стихи эти не выходят за пределы чисто технической эквилибристики. В поэзии они занимают место музыкальных этюдов, не больше. А между тем звукопись необходима поэту для того, чтобы усиливать ощущение, заложенное в самой идее стихотворения. Наиболее простая задача — звукоподражание:
Стихи эти не выходят за пределы чисто технической эквилибристики. В поэзии они занимают место музыкальных этюдов, не больше. А между тем звукопись необходима поэту для того, чтобы усиливать ощущение, заложенное в самой идее стихотворения. Наиболее простая задача — звукоподражание:
Пых,
Дых,
пых-
тят
Мои фабрики.
(Маяковский)
 Довольно просто изобразить звукописью барабанный бой:
Довольно просто изобразить звукописью барабанный бой:
Пара барабанов,
Пара барабанов,
Пара барабанов
Била
Бурю.
 Хорошо поддается этому и стук железнодорожных вагонов:
Хорошо поддается этому и стук железнодорожных вагонов:
И четкой чечеткой через Чаган
Помчался в чаду
мимо дач —
поезд.
 Не следует, однако, доводить понимание звукописи до абсурда. Некий теоретик всерьез уверял меня в том, что, читая пушкинские строчки:
Не следует, однако, доводить понимание звукописи до абсурда. Некий теоретик всерьез уверял меня в том, что, читая пушкинские строчки:
Донос на гетмана-злодея
Царю Петру от Кочубея, —
имя царя нужно произносить так: «Петтпрру!», ибо здесь гонец якобы уже прискакал и осаживает коня.
 Особенно хороша звукопись, когда игра дается не «в лоб», а как бы вкраплена в смысловую ткань н вызывает представление о звукоподражании между прочим. Пример такого благородного звучания — строфа Лермонтова:
Особенно хороша звукопись, когда игра дается не «в лоб», а как бы вкраплена в смысловую ткань н вызывает представление о звукоподражании между прочим. Пример такого благородного звучания — строфа Лермонтова:
Я знаю, чем утешенный,
По звонкой мостовой
Вчера скакал, как бешеный,
Татарин молодой.
 Здесь искусство поэта проявилось, конечно, не в подборе таких слов, как, например, «скакал», которое определяет скаканье уже само по себе, независимо от поисков поэта. Даже слова «звонкой» и «мостовой» не столько находка Лермонтова, сколько цитата из Пушкина, — помните в «Медном всаднике»:
Здесь искусство поэта проявилось, конечно, не в подборе таких слов, как, например, «скакал», которое определяет скаканье уже само по себе, независимо от поисков поэта. Даже слова «звонкой» и «мостовой» не столько находка Лермонтова, сколько цитата из Пушкина, — помните в «Медном всаднике»:
Тяжелозвонкое скаканье
По потрясенной мостовой.
 Лермонтов находит для конского топота звук «татА» в совершенно необходимом слове «татарин», окружает этот звук шумами «бешеный» и «молодой», обладающими таким просторным соотношением гласных и согласных, что получается дополнительное ощущение беспрепятственности, безудержности конского гона.
Лермонтов находит для конского топота звук «татА» в совершенно необходимом слове «татарин», окружает этот звук шумами «бешеный» и «молодой», обладающими таким просторным соотношением гласных и согласных, что получается дополнительное ощущение беспрепятственности, безудержности конского гона.
 Иногда звукоподражание нужно для того, чтобы сэкономить описание того или другого персонажа:
Иногда звукоподражание нужно для того, чтобы сэкономить описание того или другого персонажа:
И штарчешки шаря галошей крыло (автомобиля)
 Тут дано ясное представление о том, что подъехал не просто старик, но старик шамкающий.
Тут дано ясное представление о том, что подъехал не просто старик, но старик шамкающий.
 Иногда звукоподражание характеризует главное через второстепенное:
Иногда звукоподражание характеризует главное через второстепенное:
Когда в кавказском кавполку я вижу казака
 Тут нет еще коня, которого нужно изобразить, здесь только казак. Но благодаря звукоподражанию возникает ассоциация, связанная с профессиональной чертой действующего лица: он кавалерист — видно, как он гарцует. Кстати, сочетания в стихе слов, подобранных на какой-нибудь определенный звук, называется аллитерацией.
Тут нет еще коня, которого нужно изобразить, здесь только казак. Но благодаря звукоподражанию возникает ассоциация, связанная с профессиональной чертой действующего лица: он кавалерист — видно, как он гарцует. Кстати, сочетания в стихе слов, подобранных на какой-нибудь определенный звук, называется аллитерацией.
 Бальмонту понадобилась аллитерация на «в» для передачи морского прибоя:
Бальмонту понадобилась аллитерация на «в» для передачи морского прибоя:
Вечер. Взморье. Вздохи ветра.
Величавый возглас волн.
 Блоку аллитерация на «л» нужна была для того, чтобы сообщить изображаемой девушке особую лиричность и нежность:
Блоку аллитерация на «л» нужна была для того, чтобы сообщить изображаемой девушке особую лиричность и нежность:
Так пел ее голос, летящий в купол,
И луч снял на белом плече,
И каждым из мрака смотрел и слушал.
Как белое платье пело в луче.
 Здесь уже нет звукоподражания в узком смысле: звук играет роль краски.
Здесь уже нет звукоподражания в узком смысле: звук играет роль краски.
 К звукописи необходимо отнести и такой случай, когда поэт добивается не просто аллитераций на «в», «к», «л», «р» и так далее, а стремится сочетать в определенном порядке гласные и согласные звуки. Частный пример этого мы видели в стихах Лермонтова («бешеный», «татарин», «молодой») — там этот прием был применен для ощущения конского полета. В моей практике имеется другой пример. Стихотворение «Черепаха». Поскольку дело происходит в Японии, я и хотел первую строку в качестве дебюта написать «по-японски», то есть сообщить ей характер японской речи, в которой, как известно, нет скоплений согласных:
К звукописи необходимо отнести и такой случай, когда поэт добивается не просто аллитераций на «в», «к», «л», «р» и так далее, а стремится сочетать в определенном порядке гласные и согласные звуки. Частный пример этого мы видели в стихах Лермонтова («бешеный», «татарин», «молодой») — там этот прием был применен для ощущения конского полета. В моей практике имеется другой пример. Стихотворение «Черепаха». Поскольку дело происходит в Японии, я и хотел первую строку в качестве дебюта написать «по-японски», то есть сообщить ей характер японской речи, в которой, как известно, нет скоплений согласных:
Черепаха на базаре Хакодатэ.
 Заканчивая очерк о звукописи, необходимо сказать два слова о так называемых сдвигах. Сдвиги — это такое неудачное соседство звуков, когда помимо желания автора возникает новый, иногда совершенно нелепый смысл. Например, у Лермонтова:
Заканчивая очерк о звукописи, необходимо сказать два слова о так называемых сдвигах. Сдвиги — это такое неудачное соседство звуков, когда помимо желания автора возникает новый, иногда совершенно нелепый смысл. Например, у Лермонтова:
С свинцом к груди лежал недвижим я.
 Два «с» сливаются в одно, и трагическая строка звучит юмористически:
Два «с» сливаются в одно, и трагическая строка звучит юмористически:
С винцом в груди...
 Встречаются сдвиги даже у Пушкина, который всегда очень строго относился к пластике своего стиха:
Встречаются сдвиги даже у Пушкина, который всегда очень строго относился к пластике своего стиха:
Со сна садится в ванну со льдом —
 слышится, как «сосна садится...»
слышится, как «сосна садится...»
 Строка казахского поэта X. Бекхожина переведена по-русски так:
Строка казахского поэта X. Бекхожина переведена по-русски так:
Можно ли быть равнодушным ко злу?
 Действительно, козлу никак нельзя быть равнодушным, ибо его задача — ревностно следить за порядком в стаде.
Действительно, козлу никак нельзя быть равнодушным, ибо его задача — ревностно следить за порядком в стаде.